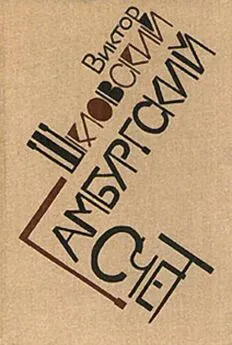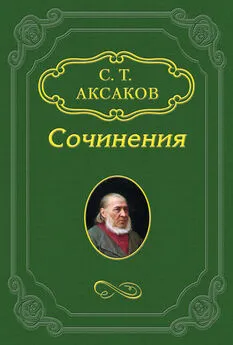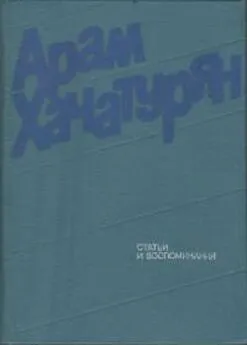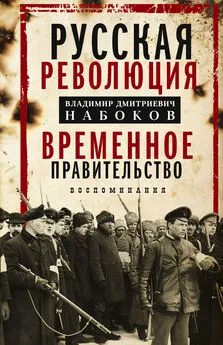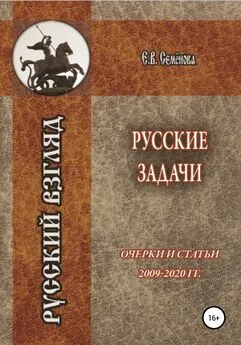Русская эмиграция и фашизм: Статьи и воспоминания
- Название:Русская эмиграция и фашизм: Статьи и воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд. центр «ТЕРРА»
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9227-0255-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Русская эмиграция и фашизм: Статьи и воспоминания краткое содержание
В работах историков Петербурга, Москвы, Владивостока, Эстонии, Болгарии, Франции и Австралии рассматривается история первых организаций русских фашистов в эмиграции, русских эмигрантов в Болгарии и Югославии в годы войны, их участия в Русском охранном корпусе в Югославии, рассказано о русских священниках этого Корпуса. Приведены сведения об аудиенции глава партии младороссов А.Л. Казем-Бека у Б. Муссолини в 1934 г., об участии русских эмигрантов австралийского штата Квинсленд в организациях русских фашистов в Австралии. Освещены взгляды философа-эмигранта Н.В. Устрялова на идеологию и политическую тактику итальянского фашизма и русского большевизма. Анализируются русский фашизм в странах Латинской Америки, позиция Русской Православной Церкви в Латинской Америке и ее отношение к фашизму, драматизм внутриэмигрантского раскола по проблемам войны и фашизма.
Публикуются воспоминания Г.К. Графа – начальника Канцелярии вел. кн. Кирилла Владимировича, принявшего титул императора всероссийского Кирилла I, – о нелегкой жизни русских эмигрантов в оккупированном Париже и после его освобождения.
Сборник предназначен для специалистов по истории русской эмиграции и всех, интересующихся этой темой.
Русская эмиграция и фашизм: Статьи и воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Русская эмиграция не была однородной: одни придерживались монархических взглядов, другие были республиканцами, третьи вообще не имели политических убеждений, озабоченные собственным выживанием в чужой стране. Не было единства взглядов и в каждой из частей русской эмиграции, в том числе монархической.
Несогласие имело место и в самой императорской фамилии за рубежом, из представителей которой наибольшей известностью как бывший главнокомандующий русской армией пользовался вел. кн. Николай Николаевич младший [7] Его называли так для того, чтобы отличить от его отца – вел. кн. Николая Николаевича старшего (1831-1891), в свое время тоже главнокомандующего (войсками гвардии).
(1856-1929) – внук Николая I и двоюродный дядя Николая II. Монархическое крыло Белого движения и избранный в 1921 г. Высший монархический совет (объединявший крайне правые русские монархические организации за рубежом) считали его претендентом на российский престол как старейшего в династии.
Для консолидации кадров Белой армии на чужбине правые монархисты пытались уговорить вел. кн. Николая Николаевича принять звание «верховного вождя» и возглавить «освободительное движение». В апреле 1926 г. правыми монархическими кругами эмиграции Николай Николаевич был объявлен «верховным вождем» для освобождения России от коммунизма. Эти круги надеялись, что в случае успеха движения он будет провозглашен императором. Сам Николай Николаевич заявлял, что стоит на точке зрения непредрешения. Его сторонников в эмиграции называли «николаевцами».
Однако по закону о престолонаследии главой Императорского Дома (династии), пусть и в эмиграции, по первородству являлся вел. кн. Кирилл Владимирович (1876-1938). Поэтому он обладал легитимными (законными с точки зрения законов уже не существовавшей императорской России) правами на российский престол, и это признавали все оставшиеся в живых члены династии. Как законный (легитимный) претендент на престол, он основал легитимно-монархическое движение за рубежом, с 1922 г. носил звание блюстителя престола, а с сентября 1924 г. объявил себя российским императором в изгнании Кириллом I (только для русских за рубежом, а для иностранцев он продолжал именоваться великим князем).
Сам Кирилл Владимирович как глава династии и возглавляемое им легитимно-монархическое движение в случае падения в России советской власти вследствие внутреннего переворота ставили себе целью установление там легитимно-монархического строя с Кириллом I во главе. Таким образом, он стоял на позиции предрешения заранее законного монархического строя. Его сторонников называли легитимистами, или «кирилловцами».
Это вызвало раскол в русском монархическом зарубежье и в самом Доме Романовых на «николаевцев» и легитимистов («кирилловцев»). После смерти Николая Николаевича (1929) единственным главой русской монархической эмиграции оставался до своей смерти в 1938 г. Кирилл Владимирович.
Раскол произошел и в Русской зарубежной церкви, объявленной автокефальной (то есть независимой от подконтрольной большевикам Русской Православной Церкви в Советской России) и стремившейся к восстановлению монархии. Но и Зарубежная церковь в силу человеческих амбиций ее руководителей вскоре разделилась на две параллельные церкви. Одну возглавлял митрополит Евлогий, другую – митрополит Антоний (помирились митрополиты только в 1934 г.), поэтому и прихожане разделились на «евлогианцев» и «антоньевцев», причем первые были на стороне «николаевцев», а вторые поддерживали «кирилловцев». В эмигрантской среде частыми были политические и церковные споры, особенно пристрастными в них были «евлогианки» и «антоньевки». [8] Граф Г.К. На службе Императорскому Дому России. 1917-1941: Воспоминания. СПб., 2004. с. 81-87, 200-201; Черняев В.Ю 1) Г.К. Граф и его воспоминания о русском монархическом зарубежье // Граф Г. К На службе Императорскому Дому России. с. 13; 2) Комментарии // Там же. с. 547, 550, 568-569.
Некоторые деятели русской эмиграции сотрудничали с советской разведкой или были ее тайными агентами (генерал П.П. Дьяконов, полковник Н.А. де Роберти, зам. председателя РОВС генерал Н.В. Скоблин, его жена певица Н.В. Плевицкая, и др.).
В конечном счете, монархисты, вне зависимости от их политического и церковного направления, своих целей не достигли, советский строй в нашей стране надолго укрепился и просуществовал до начала 1990-х гг., когда его падение (вследствие внутренних причин, как и предполагал Кирилл Владимирович) уже никак не было связано с давнишними планами русской монархической эмиграции первой волны.
Сменовеховство. Эмиграция, как уже говорилось, не была однородной. Часть русских за рубежом пыталась найти компромисс на определенных условиях с установившейся на родине советской властью. В 1920-е гг. в Праге, Париже и других центрах русской эмиграции возникает движение сменовеховства (по названию вышедшей в 1921 г. в Праге книги «Смена вех»). Сменовеховцы осознавали бесперспективность вооруженной борьбы с Советской Россией и повторной интервенции, признавали определенные позитивные перемены на родине.
А.В. Бобрищев-Пушкин, Ю.В. Ключников, Н.В. Устрялов и некоторые другие представители этого движения выступали за экономический либерализм (смешанную экономику), политический плюрализм (многопартийность) и передачу власти от партии к Советам.
Однако репрессии властей против сменовеховцев в Советской России и отсутствие поддержки у большей части русской эмиграции за границей способствовали тому, что в конце 1920-х гг. движение иссякает.
Творческая интеллигенция на чужбине. После Октября произошел массовый исход творческой интеллигенции из России. Многие были принудительно высланы из страны за свой счет (в случае отказа – за счет ГПУ). К лету 1922 г. ГПУ составило списки «антисоветской» интеллигенции, и в августе 1922 – марте 1923 г. за границу было депортировано свыше 190 представителей инакомыслящей интеллигенции: лучших ученых, университетских профессоров, общественных деятелей, публицистов, писателей (философы Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Ф.А. Степун; социолог П.А. Сорокин, экономист Б.Д. Бруцкус, историк А.А. Кизеветтер, астроном В.В. Стратонов, писатель М.А. Осоргин и др.). Их обязали подписать документ, согласно которому в случае возвращения в РСФСР они подлежали расстрелу. Большинство из них были депортированы морем из Петрограда в г. Штеттин (Германия) на двух «философских пароходах» («Обер-бургомистр Гаккен» 30 сентября и «Пруссия» – 18 ноября 1922 г.). [9] Название «философские» закрепилось за этими судами потому, что многие высланные на них были философами. Ныне на наб. Лейтенанта Шмидта (у 9-й линии Васильевского острова) установлен памятный знак из гранита «Уехавшим философам» (арх. А. Сайков).
Интервал:
Закладка: