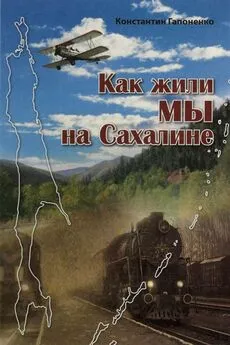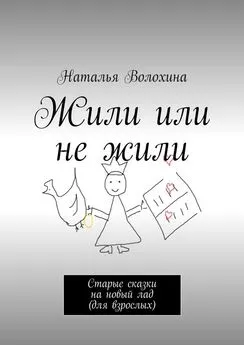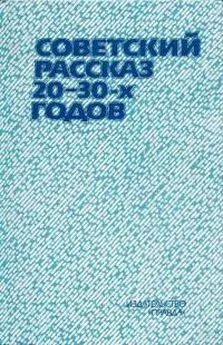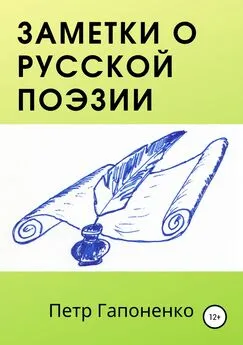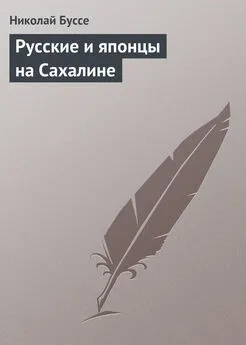Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине
- Название:Как жили мы на Сахалине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Лукоморье
- Год:2010
- Город:Южно-Сахалинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине краткое содержание
Как жили мы на Сахалине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однажды мы возвращались со стана в скверную погоду. Нашу большую лодку (называли ее «перевоз») зажали льдины, которые пригнал ветер с верховьев. Взрослых в лодке было человек десять, они яростно отбивались баграми от напиравших льдин. Лодка временами трещала, рыбаки молча работали, а я одна среди них, в стареньком пальтишке, со своей сумкой, сидела зверьком и сверкала глазами. Мне было любопытно. По детскому неведению я страха не ощущала…
Все село прибежало к берегу и замерло в испуге. Помочь никто ничем не мог. В толпе стояла и моя мама. Позже она рассказывала, как, плача, молилась о нашем спасении. Вздох облегчения вырвался из толпы, когда лодка пробилась. Рослый рыбак взял меня в охапку, сошел в воду по пояс и высадил на берег. Сумку я доставила домой. Мама, приготовив ужин, сама есть не смогла, все молча плакала от пережитого потрясения.
Что и говорить, голодно мы жили в Замьянах, нам все время хотелось есть. На младших жалко было смотреть. Они никак не понимали, почему в доме нет хлеба. Особенно страдали зимой. За окнами мороз трескучий, мертвое пространство кругом, стылость во всем. Мы убегаем от замороженного окошка, забираемся на печку, жмемся друг к дружке. Медленно текут тягостные часы. Чтобы не думать о еде, я рассказываю сказки, но они всегда сводятся к одному концу — к появлению скатерти-самобранки, на которой в изобилии разных яств. А на самом деле у нас всего чугунок с рыбьей ухой да два кусочка хлеба для близнецов. Из хлеба я готовлю жвачку, заворачиваю в тряпицы и даю им вместо соски. Горькое наше детство!
Ранней весной уже было легче. Мама и старшая сестра уходили вместе с соседками за Волгу, где росли корни растения, называемого у нас манцаем. Корни, покрытые мхом, подсушивали в печи, тщательно очищали кусочком стекла или ножичком и ели. Было вкусно и сытно. Чаще их мололи на камнях, из муки делали лепешки, а из крупы варили кашу. Тем и спасались. Голь на выдумку хитра.
Голод сорвал нашу семью с места. Решение приходило мучительно, разговоры про дальнюю дорогу шли долго. Не перед трудностями робели, а беспокоились за наши детские судьбы. Вдруг там даже школы нету? Вербовщик объяснял: где Советская власть есть, там и школа имеется. Посулам не было числа: и рыбы полно, и хлеба вдоволь, а деньги лопатой гребут.
Отец посмеивался: если б так, туда бы в первую очередь начальство кинулось, а если рабочих вербуют, значит, больше работы, чем денег.
В январе папа, мама и старшая сестра Лида пошли пешком в Енотаевск, райцентр, получили паспорта. В селе только учителя и врачи имели паспорта, для остальных основным документом была книжка колхозника без фотографии. Собирались недолго, торопливо и в середине февраля тронулись в путь. Провожали нас все родственники, соседи, некоторые всплакнули, а мы ничего не понимали. Все казалось: вот наступит вечер, и мы вернемся в родной домик. Привезли нас на станцию Икряная, и тут мы впервые увидели паровоз, много людей, которых расселяли по вагонам. В вагонах были нары и печки-буржуйки. Наша семья заняла нижние нары — пространства вполне хватило для всех. Паровоз крикнул раз несколько, и мы поехали в неведомый край.
Путешествие длилось почти два месяца. 13 апреля пароход «Оха» вошел в Холмский порт. На сопках еще лежал снег. Советскую улицу перегораживали лужи, а мы, ребятишки, были обуты в шерстяные носки и галоши. Нас папа переносил через лужи. Пешком мы дошли до южного вокзала, опять погрузились в товарный вагон и прибыли в колхоз «Заветы Ильича».
Жилье для пас не приготовили, подселили в дом, где уже обитала семья в пять человек, да нас восемь. Тесно, конечно, а как-то уживались. Только осенью 1950 года нам выделили отдельную квартиру в японском домике на берегу моря. Домик разделили перегородкой, с юга вход был для одной семьи, а с юго-востока — дверь в наше жилище размером не более 16 квадратных метров. До сих пор не приложу ума, как мы все там помещались. Справа, у окошка, стоял сундук, привезенный с материка, напротив — ящик, на нем была общая детская постель, далее плита да обеденный стол, за которым мы готовили уроки. Засыпные стены этого домика продувались холодными ветрами насквозь, но это нас не смущало. Главное — сытно стало. Мы сами себе не верили, что у нас на столе есть белый хлеб с маслом, рыба, даже икра! Не верили нам и в Замьянах, куда мы с радостью об этом сообщали. Долго еще мы скучали по родному краю, часто снилось мне наше село. Позже я приезжала туда в отпуск, оно как-то потускнело, его краски потеряли свою яркость, а 1МО>кет, у меня восприятие было не то. Меня уже тянуло домой, в Яблочный.
Весной мы получили землю в распадке, посадили картофель, посеяли сахарную свеклу, разработали небольшой лоскут возле дома. Все мы были заняты целое лето: копошились в огороде, заготавливали дрова, спиливали горелые пни, складывали их в кучу, чтобы зимой, обернув сеткой, тащить домой волоком. Хотя коровы у нас не было, сено мы косили на продажу; любая копейка была на счету. Работали мы и на рыбозаводе, в основном чистили сушеную морскую капусту. Нам говорили, что ее отправляли за границу. Даже четырех летние братишки помогали нам, поэтому мы сдавали за день по сто с лишним килограммов.
Осенью я пошла в пятый класс. До этого мне пришлось пропустить две зимы. В 1946 году мама родила двойню, чувствовала себя плохо, и ухаживать за мамой и малышами пришлось мне, так как старшая сестра Лида после семилетки работала вместе с папой на тоне. Так пропал один учебный год. Следующий я опять просидела дома, так как выйти из дому было не в чем. Теплые чулки поизносились, мама их штопала, штопала, но ничего не получилось. В галошах на босу ногу не побежишь, а другой обувки у нас там не было.
А как я любила школу! Для меня там был особый мир. По нынешнему взгляду, конечно, те школы были бедны, не хватало учебников и тетрадей, зато в классе была мудрая учительница. Я ловила каждое ее слово. Священными были те минуты, когда она объясняла что-то новое, читала нам рассказы. Мне нравилось писать, считать, заучивать стихи, придумывать предложения, составлять свои примеры. Не было случая, чтобы я пришла в класс с невыученным уроком или с нерешенной задачей. Я с огромным интересом, с какой-то жаждой набрасывалась на каждую новую книжку, так мне хотелось все знать. Я и сама чувствовала, как расту, будто обретаю крылья. Уже в седьмом классе учителя доверяли мне проверку тетрадей и по русскому языку, и по математике. Школа для меня и теперь все тот же святой дом!
На новом месте мы приободрились и зажили бы хорошо, если б на нашу семью не обрушилось большое горе. Летом 1950 года во время дождливой и ветреной погоды папа упал и ударился о перекладину кунгаса. Ему сделалось плохо, но к врачу он не пошел. Об этом мы узнали от его товарищей, когда он уже слег. А тогда он дома ничего не сказал. В подобных случаях он всегда отшучивался: до свадьбы заживет!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: