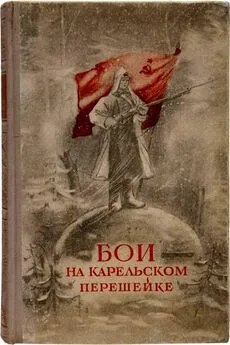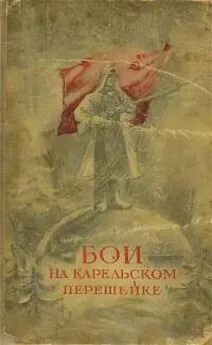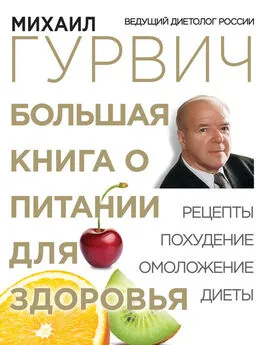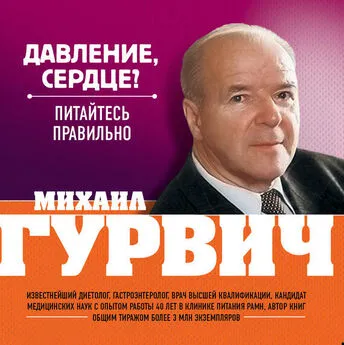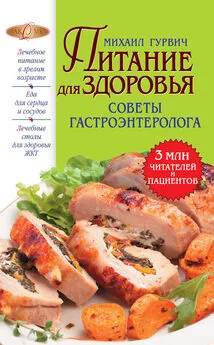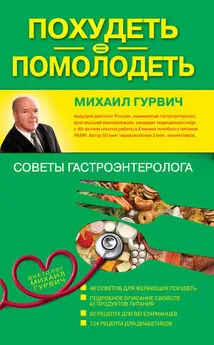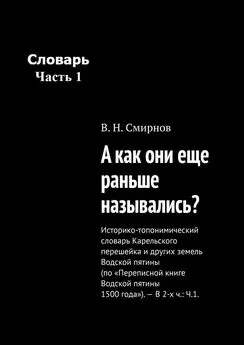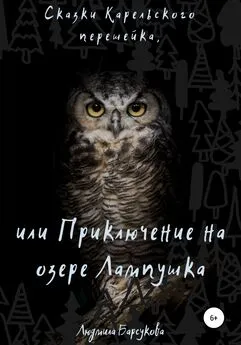Михаил Гурвич - Бои на Карельском перешейке
- Название:Бои на Карельском перешейке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОГИЗ
- Год:1941
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гурвич - Бои на Карельском перешейке краткое содержание
В сборе материалов и их литературной обработке приняли участие писатели и журналисты: И. Авраменко, В. Беляев, Р. Бершадский, М. Головин, Н. Григорьев, П. Дмитриев, Б. Емельянов, В. Заводчиков, Б. Лихарев, К. Левин, Я. Литовченко, Л. Иерихонов, И. Молчанов, М. Погарский, В. Саянов, С. Семенов, Е. Соболевский, И. Френкель, Г. Холопов, Е. Цитович, Н. Чуковский, А. Шуэр и другие.
Бои на Карельском перешейке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обратно я полз уже целиной. Пересек полянку, оглянулся, выбрал, где встать. Подходящее место нашел на лесной опушке. Отсюда до дота было метров девяносто — сто. Другого места для наблюдения не было. Так, сначала ползком, а потом уже во весь рост, когда очутился за деревьями, я вернулся к своим. В это время уже совсем рассвело.
Телефонист, узнав, где находится дот, установил аппарат и усиленно начал работать лопатой. Разведчики — тоже.
— Стараетесь, товарищи? — спросил я.
— Стараемся, товарищ командир, — ответили они. — Не знаем, как из этой самой доты, но своим снарядом убить определенно могут…
Я знал, что мы находимся в эллипсе рассеивания снарядов своей же батареи. Абсолютно точной стрельбы из орудий, да еще на расстояние в семь километров, не бывает. Снаряды покрывают определенный участок площади, густо собираясь к его центру, безопасная зона находится не ближе чем в 200 метрах от основной массы разрывов на поражение.
И все-таки перенести наблюдательный пункт было некуда. В 130–150 метрах от дота в окопах, укрытых за лесом, лежала пехота.
Командир роты, узнав о наших приготовлениях, прислал мне пулеметный расчет со станковым пулеметом. Охрана наблюдательного пункта была необходима. Финские лыжники могли подойти к нам и с фланга и с тыла. Пулемет, ленты и одного пулеметчика я оставил, остальных отослал обратно. Своих тоже вернул — оставил одного разведчика и одного связиста. Вместе со мной на наблюдательном пункте осталось четверо.
Потом я пошел к командиру роты.
— Вот что, — сказал я ему. — Отползайте-ка со своими бойцами еще метров на сто. Эллипс рассеивания — неприятная штука!
Пехотный командир был понимающим человеком. Уже через несколько минут по одному, по два пехотинцы стали отходить на свою вторую линию.
— Все? — спросил я через некоторое время.
— Все, — ответили мне.
Я вернулся на пункт. Можно было начинать пристрелку, но оставалась невыполненной еще одна задача. На пункте, как я уже сказал, нас было четверо. Не очень крупное подразделение, но и его следовало рассредоточить.
Мы будем находиться не только под обстрелом финских снарядов и пулеметов, но и под своими снарядами. Если одного убьют, вести огонь должен другой. Стало быть, надо разместиться так, чтобы прямое попадание снаряда не могло вывести из строя сразу всех. Мы расположились на расстоянии 15 метров друг от друга. На самом удобном месте, с которого был виден пригорок, лег я сам, вправо от меня, ближе к пехоте, лег разведчик, слева— телефонист, еще дальше, на фланге — пулеметчик. Пункт был готов к открытию огня.
Первую команду я подал, зная заранее, что снаряд разорвется в 500–600 метрах за целью. Так оно и случилось. Медленно, от деления к делению, я приближал разрывы к пригорку.
— Левее 0-02,—говорил я… Прицел… Огонь!
— Выстрел! — отвечали мне с огневых позиций.
На сосновой ветке передо мной лежал секундомер. Около 20 секунд снаряд летел к цели. Было время нырнуть в окоп, вплотную прижаться к земле. И вот он пронесся над нами с глухим ворчанием, сметая с деревьев снег, и разорвался. Осколки свистели вокруг, и сосновые ветви падали в снег.
Я подвел разрывы вплотную к доту. Наводка была исключительно точной. Ни один из снарядов не разорвался ближе, чем в сорока метрах от нас.
Заботясь о людях и о самом себе, я проявил оплошность. Удалил от себя телефониста и был вынужден громко подавать ему команду. Нас слышали в доте. По крайней мере, до нас доходили крики финнов. Через несколько минут вражеские орудия начали нас обстреливать. Это было неприятно.
Тогда мы стали временно умолкать. Стреляли 5—10 минут и вдруг переставали вести огонь. Финны думали, что разгромили нас, и также прекращали стрельбу. Тогда мы открывали огонь снова. Так продолжалась эта дуэль наших тяжелых гаубиц с финскими пушками. Дот огня не вел. Как потом оказалось, он был фланкирующим и не имел амбразур в нашу сторону. Из соседнего дота не видели нас за деревьями.
Через 15–20 выстрелов первый снаряд попал в дот, рикошетировал, разорвался в стороне, но все же свалил одну из росших на доте сосен. Еще через несколько минут снаряд сорвал «подушку» дота. Справа пошла пехота, но залегла. Дот открыл огонь. И вот, наконец, снаряд разорвался прямо на куполе. Из дота бегут финны. А мой пулеметчик за деревьями их не видит. Еще одна оплошность. Сразу же, только выбежав, финны снова проваливаются под землю. К доту, как выяснилось позже, был проведен глубокий ход сообщения. А ведь если бы мы предусмотрели это раньше, наш пулемет скосил бы врагов в самом начале их бегства.
Мы вернулись на батарею и улеглись спать.
21 февраля началась артиллерийская подготовка. Через четыре часа она кончилась, пехота пошла. Но не пройдя и километра, легла снова. Сзади первой линии дотов у финнов была вторая, еще более сильная, еще лучше замаскированная.
Мощные долговременные огневые точки здесь были созданы по лучшим французским образцам. Огневая разведка их с дальнего расстояния не дала ощутительных результатов, да и не могла дать. Мы не знали, где они расположены. Надо было не только разрушать, но и находить эти чудовища. 24 или 25 февраля лейтенант Тарасов, ныне Герой Советского Союза, первым вывез свое тяжелое орудие для стрельбы по доту прямой наводкой. 26 февраля такой же приказ получил я.
— По какому доту вести огонь? Куда вывозить орудие? — спросил я старшего командира.
Он ответил, что предоставляет батарее самую широкую инициативу.
— Стрелять хочется всем, — сказал он, — но стрелять по доту прямой наводкой будет тот, кто обнаружит его. Понятно, товарищ старший лейтенант?
Да, понятно. Я взял с собой младшего лейтенанта Мордасова, приказал трактористам приготовить два лучших трактора, проверить орудия и опять ушел в разведку.
Слово «ушел» никак не определяет способа нашего передвижения. Мы, собственно, не ползли, а извивались ужами где-то между снегом и землей. Так мы пролезли надолбы, «подошли» к проволоке, огляделись по сторонам — никаких признаков дота не было. Спокойные и одинаковые виднелись то тут, то там бугорки, камни, сугробы. Снег набивался за шиворот, а особенно в валенки. Потом я уже приспособился — сверх валенок надевал еще одни штаны. Проволока казалась бесконечной.
И вдруг, на наших глазах один из снежных сугробов, безобидных на вид, повернул свою верхушку, осыпая снег. Мы даже и не думали о том, что финны повертывают башню дота, может быть, разглядев наше приближение. Цель была найдена, вот в чем все дело!..
В 300 метрах от дота одно из моих орудий встало на открытую позицию. Мы вывезли его в ночь с 26 на 27 февраля. Саперы, по пояс в снегу, работали целый день и часть ночи, прокладывая дорогу тяжелым тракторам. К утру все было готово.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: