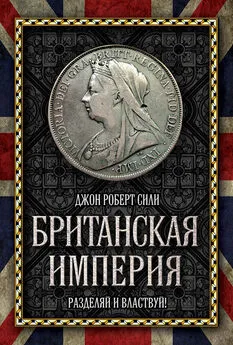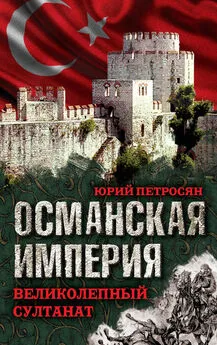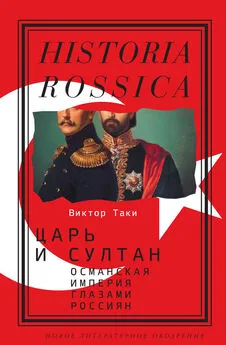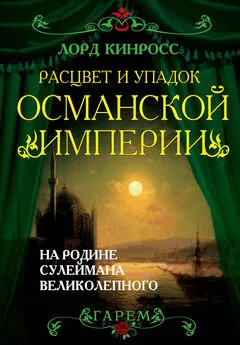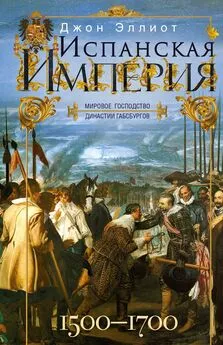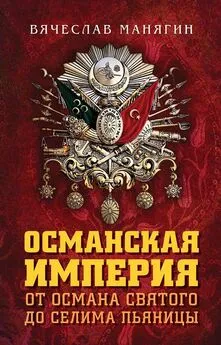Джон Бальфур - Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.]
- Название:Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5262-6, 978-5-9524-5263-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Бальфур - Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.] краткое содержание
Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 19
Упадок Османской империи вскоре проявился в ослаблении власти султана, которого в общем не интересовали дела государства, а также правительственного аппарата, пренебрегающего ответственностью и игнорирующего основополагающие принципы. В государстве, ранее полагавшемся на абсолютную личную власть суверена, которую он уверенно применял, и эффективный контроль администрации, это привело к неразберихе и быстро распространяющемуся беспорядку. Частично это было вызвано тем фактом, что империя исчерпала свою сферу деятельности и способность к территориальным завоеваниям в Европе, которые с самого начала были для нее главной движущей силой. Века войн породили в османах единство цели, дали им богатство в виде не только военной добычи, но и территорий для оседлой жизни. Теперь осталось совсем немного таких возможностей и таких наград. При отсутствии врага, которого можно грабить, люди грабили друг друга. Они стекались в города или разбредались по сельской местности, сея беспорядки.
Стал очевидным недостаток земельной реформы Сулеймана. Он был следствием того факта, что, из лучших побуждений, но, как становилось очевидным, с течением времени с отнюдь не лучшими результатами, распределение главных фьефов было сосредоточено в столице, а не децентрализовано, как прежде, в руках провинциальных властей. Поэтому оно стало меньше зависеть от справедливых претензий на землю, а больше — от дворцовых интриг и коррумпированного распределения благ. Это привело к развитию крупных земельных владений, что шло вразрез с намерениями Сулеймана, и по ходу дела к развитию принципа наследования. Закрепление этого принципа шло параллельно с постепенным завершением периода непрерывных турецких завоеваний с постоянными выгодами для землевладельцев, что вело к изъятию земли у крестьянства и увеличению желания богачей иметь еще больше земли.
К тому же владельцы фьефов, сипахи, до того времени бывшие оплотом Османского государства, поскольку жили на доходы от своей земли и трудов своих крестьян, теперь перестали отвечать прежнему назначению — быть источником формирования вооруженных сил. Сплоченные старыми османскими традициями, привыкшие к коротким летним военным кампаниям, сипахи не могли приспособиться к современной войне, с общей потребностью в пеших солдатах, обученных обращению с огнестрельным оружием, и в технических родах войск. В Европе они не могли противостоять профессиональным германским фузилерам с их более тяжелым вооружением. В результате превратились в сокращающийся или, по крайней мере, изменяющийся класс, а на самом деле в разрастающийся элемент неподчинения и раскола. Теперь часть сипахов отказывалась принимать участие в кампаниях, которые предполагали лишения и опасности, но не компенсировали их материальными приобретениями. Они могли покинуть поле, когда им это было удобно, как поступили в сражении при Мезе-Керестеше в Венгрии в 1596 году. После этого тридцать тысяч сипахов были лишены своих поместий — явный признак того, что система к этому времени изжила себя.
За любое нарушение служебного долга, если только он не был готов к выплате денег вместо несения воинской службы, сипах лишался земельного надела, что в результате вело к росту числа безземельных крестьян — потенциальных мятежников. Их земли могли присваиваться другими людьми, иногда в рамках закона, иногда за взятку судьям, занимавшимся удовлетворением требований. Так разрастался новый класс крупных землевладельцев, которыми нередко становились государственные чиновники, придворные и служащие дворца, а нередко и посторонние люди. С помощью коррупционных средств один человек получил возможность аккумулировать любое количество наделов и, следовательно, собрать большую земельную собственность. Когда сипахи были в состоянии сохранить свои наделы, они зачастую стремились сделать их наследственными, передавая своим сыновьям, которые не имели обязанностей по выполнению воинской службы и вполне могли отказаться от тягот седла, чтобы вести, как скупщики фьефов, праздную жизнь в городе. Так разрасталась за счет крестьянства система наследственного землевладения без участия владельца в обработке земли. Она была в принципе и на практике полностью противоположна государственной системе, сознательно построенной предыдущими султанами. Это постоянно увеличивало разрыв между образом жизни и интересами крестьянства и образом жизни и интересами городского населения.
В самой столице характер правительственной службы — порядок назначения на должности — также претерпел радикальные изменения. До этого времени штат султана, который управлял страной, набирался исключительно из порабощенных христиан, следовательно, в основном из крестьян, выросших в деревнях, сохранивших близость к земле и понимание нужд села. Но эта система начала ослабевать в последней фазе правления Сулеймана, и в конце XVI века назначения в состоящий из рабов султана штат стали доступными для его мусульманских подданных. Речь шла о свободных людях, выросших в городах. Такие люди нередко попадали на службу благодаря семейному влиянию или покупке должности и имели теперь право завещать свои посты сыновьям. В результате в системе государственного управления укоренилась традиция наследования постов с ее неизбежным непотизмом. Теперь честолюбивые молодые мусульмане с хорошими связями, достаточными финансовыми ресурсами, боевым настроем и обостренным политическим чутьем могли пробиваться наверх, к собственной выгоде, переходя с одного доходного места на другое. Тем не менее, чтобы достичь вершины, как и в прошлом, все еще требовалось обладать энергией и умом. Но империя уже не имела правительства, составленного из элиты, обученной и отобранной сувереном на основании заслуг и личных качеств.
Этим разнообразным элементам османского упадка были присущи некоторые фундаментальные факторы социального и экономического развала. Первым был прирост городского населения, превысивший рост в районах культивируемых земель. Вторым был рост цен, последовавший за притоком испано-американского золота и серебра из Нового Света. Это привело к обесцениванию османской серебряной монеты и высокому уровню инфляции, обычному в то время в значительной части средиземноморской Европы.
Из-за последовавшего экономического кризиса османское правительство (по примеру Персии) было вынуждено в 1584 году вести масштабные операции со своей валютой. Золотые монеты были девальвированы на 50 процентов, тогда как асперсы — стандартные серебряные монеты, которые служили основным расчетным средством при выплате солдатского жалованья, — были переплавлены и вновь отчеканены в более тонком виде и с большим содержанием меди. Эти монеты стали (по словам турецкого историка того времени) «легкими, как листья миндального дерева, и бесполезными, как капли росы». Обесценивание денег продолжалось до отметки, по достижении которой посол Испании в Стамбуле мог с полным основанием объявить Филиппу II: «Империя так бедна и настолько истощена, что единственные монеты, имеющиеся сейчас в обращении, — это асперсы, сделанные целиком из железа». К концу века, в условиях продолжающегося кризиса, империя действительно стала настолько слабой экономически, что была почти полным банкротом, часто неспособным содержать собственные вооруженные силы, и в обстановке широкого недовольства падающим авторитетом центральной власти, бессильной перед восстаниями и беспорядками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джон Бальфур - Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.]](/books/1097833/dzhon-balfur-osmanskaya-imperiya-shest-stoletij-ot.webp)
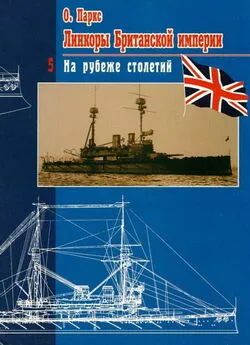
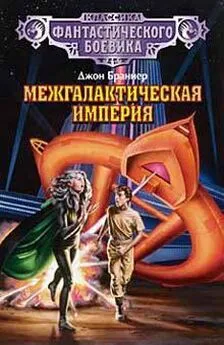
![Джон Беркли - Крепкий орешек II. Шесть дней Кондора [сборник]](/books/565351/dzhon-berkli-krepkij-oreshek-ii-shest-dnej-kondora.webp)