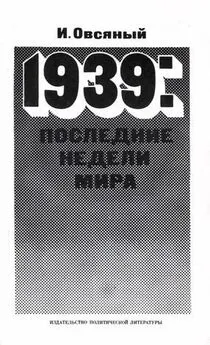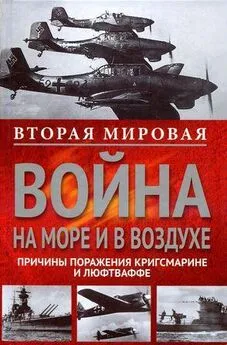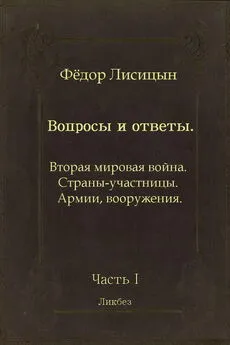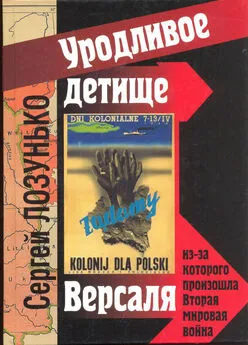Алексей Тимофеев - Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941–1945
- Название:Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941–1945
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-4565-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Тимофеев - Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941–1945 краткое содержание
Русский фактор. Вторая мировая война в Югославии. 1941–1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Говоря о 1-й казачьей дивизии, необходимо отметить, что с самого начала дивизией она была только по названию и создавалась с расчетом на позднейшее переформирование в более крупное соединение. По германским нормативам, кавалерийская дивизия должна была иметь в своем составе 5300 человек. После реорганизации по мобилизационному плану 1939–1940 гг. крупнейшей кавалерийской частью должна была быть бригада в составе 6684 человек и 4552 лошадей [320]. А 1-я казачья дивизия по состоянию на 15 октября 1943 г. имела 18 702 человека и 10 091 лошадь [321], на 1 марта 1944 г. — 18 686 человек и 14 004 лошади [322]. Дивизия на первых порах имела всего две бригады: в 1-й бригаде были 4-й кубанский, 2-й сибирский и 1-й донской полки; во 2-й бригаде были 6-й терский, 3-й кубанский и 5-й донской полки; кроме того, дивизия имела в своем составе два артиллерийских дивизиона, вооруженных 75-мм орудиями, разведывательный и инженерный батальон и вспомогательные части [323]. Во второй половине 1944 г. дивизия была переформирована в 15-й кавалерийский корпус.
Сразу же после формирования дивизию перебросили железнодорожным транспортом на территорию оккупированной Югославии для участия в антипартизанских операциях, где она вошла в подчинение командующего 2-й танковой армии вермахта генерал-полковника Рендулича. Прибывшая в Белград дивизия сразу же, самим своим проходом через сербскую столицу стала оказывать значительное пропагандистское воздействие. В середине октября эшелоны с частями Первой казачьей дивизии стали подтягиваться к столице Югославии — Белграду. В солнечный октябрьский день Белград созерцал необыкновенную для него картину. Через город, цокая копытами, гремя оружием и скрипя амуницией, двигались бесконечные колонны казачьей конницы. Жители с недоумением и любопытством смотрели на проходящие войска. «Черкесы су дошли. Русы…» — поползло по городу и по всей стране «Како е то? За што?» — недоумевали сербы» [324]. Сербский иллюстрированный двухнедельник «Коло» опубликовал в номере от 9 октября 1943 года фотографию, посвященную этому событию: крепко сбитые колонны казаков в папахах и немецкой полевой форме рысью проходят центральной улицей Теразие, у самого высокого в тогдашнем Белграде здания «Палата Албания» [325]. Желая предотвратить возможные конфликты, а также повысить пропагандистское влияние факта использования бывших советских военнопленных против партизан, генерал фон Паннвиц обратился к казакам и местному населению с прокламацией [326]. Кроме того, был отпечатан плакат, украшенный многочисленными фотографиями казаков и других советских коллаборационистов, сделанный в тех же пропагандистских целях. На плакате было и пространное объяснение мотивов, действий и численности «подсоветских» добровольцев вермахта [327]. В дальнейшем для укрепления положительного имиджа дивизии командование поощряло показательные выступления. Так, в 1943 г. казаки 2-й бригады в районе Брода (Хорватия) организовали конное выступление для местного населения с демонстрацией приемов джигитовки [328].
И тем не менее пропагандистское воздействие не было и не могло быть очень эффективным. Причем основным препятствием являлось не только естественное недоверие местного населения к пропаганде со стороны оккупационных войск. Главной проблемой стала тактика «самоснабжения», официально разрешенная германским военным командованием. Эта тактика официально была рекомендована генералу фон Паннвицу начальником Оперативного отделения Верховного командования вермахта Йодлем 24 сентября 1943 г. [329]. Результаты использования тактики «самоснабжения» особенно хорошо заметны на примере резкого увеличения числа лошадей в дивизии за несколько месяцев, проведенных на Балканах. Стоит добавить и то, что в восприятии сербов, хорватов и словенцев служившие в вермахте казаки, туркестанские и кавказские добровольцы сливались в одну неопределенную общность — «черкесы», с четко выраженной отрицательной коннотацией. На это, возможно, повлияло то, что 162-я дивизия прибыла почти одновременно с 1-й казачьей дивизией, и поэтому их часто смешивали и сравнивали [330].
Для самих казаков пропагандистская подоплека их прибытия в Сербию и Югославию не сразу стала очевидной. Лишь попав на территорию оккупированной Сербии, они с удивлением [331]стали замечать надписи «почти на русском». Вскоре казаки вступили и в устный контакт с местным населением, причем «часть разговора была понятна, часть не понятна, а о части можно было догадаться». Стало очевидно, что «сербы — православные с близкими традициями, хорваты — католики» [332]. Немецкие пропагандисты твердили казакам, что они приехали бороться с коммунистическими беспорядками [333], и настаивали на том, чтобы казаки с подозрением относились к сербам, но с симпатией и пониманием — к местным немецким, венгерским и хорватским жителям [334]. Однако казакам, которые прибыли на территорию НГХ, стало ясно, что «хорватские власти начали настоящую религиозную войну. По всей Хорватии они разрушали православные церкви… Хорваты-усташи вырезали целые сербские села…». Казаки были удивлены такой жестокостью, как и тем, как последовательно сербы сохраняли свою веру, несмотря на оказываемое на них давление [335].
Твердая приверженность православию была той особенностью, которая облегчала коммуникацию казаков и сербов. Особенность эту прежде всего заметили немцы [336]. Казаки и усташи были слугами одного господина (Третьего рейха), но отношения между ними были достаточно напряженными, их не могли наладить ни приказы немецкого командования, ни призывы партийного руководства НГХ. Ведь «… усташи… были отчаянными националистами, сильно ненавидели сербов; и негуманное обращение с сербским населением не было исключением. Это никак не могло оставить казаков равнодушными, так как сербы были единоверцами, да и какой казак мог дозволить разрушение или осквернение православной цекрви» [337]. Описано несколько случаев прямого столкновения между казаками и усташами, связанных с жестоким отношением последних к сербскому населению. Например, случай в районе Дьяково, в Славонии (Хорватия), где был размещен 1-й донской казачий полк. Там»… ночью 3 января 1944 г. казаки узнали от местного населения, что усташи привели около 200 сербов — мужчин и женщин, малых и старых, загнали их в печи кирпичного завода и начали приготовления, чтобы их сжечь. Казаки немедленно доложили об этом командиру 1-го дивизиона майору Максу и стали просить его принять меры для спасения сербов. Последний согласился и с сотней казаков прибыл к месту происшествия, где потребовал немедленно освободить людей. Усташи категорически отказались и вызывающе предложили казакам удалиться и не мешаться в дела их “державы”. Казаки начали насильно открывать двери и выпускать сербов. Усташи (их было около роты) вступили в драку с казаками. Завязалась свалка с применением оружия, в которой 17 казаков и 2 офицера были убиты. Однако усташей усмирили. Около 30 человек их были убиты, а остальные разбежались. Не успевших убежать казаки связали и в злобе избили плетями. Смертельно перепуганные сербы, выбравшись из печей кирпичного завода на свободу, падали перед казаками на колени и, плача от радости, благодарили своих спасителей» [338]. Другой подобный случай, о котором рассказал К.С. Черкассов, произошел в апреле 1944 г. в селе Гора, в районе Петринья (Босния). Сотня 5-го донского полка, проходя через село, увидела, что явившиеся в село усташи, около 20 человек, собираются взорвать православную церковь и подкладывают под нее две мины. Командир сотни, сотник Пащенко, решил доложить об этом Кононову и послал связного, который вскоре вернулся с приказом Кононова не допустить взрыва. Казаки «окружили церковь, и Пащенко, подойдя к усташскому офицеру, приказал ему немедленно вынуть мины и повесить все иконы, которые усташи поснимали, на место. ''Наша хорватская независимая держава — мы в ней хозяева, а вы убирайтесь прочь отсюда'', — надменно и вызывающе ответил усташский офицер. Пащенко сказал ему, что казаки не собираются отнимать у хорват их ''державу'', но что казаки ни за что не допустят, чтобы усташи жгли православные церкви и уничтожали сербский народ…». Дело вновь дошло до потасовки, но в конце концов церковь была разминирована, а иконы водружены на место [339]. В контексте отношений между казаками и местным сербским населением следует упомянуть феномен «сынов полка» — прием в некоторых казачьих частях на воспитание сербских мальчиков, потерявших родителей в результате усташского террора [340]. Были налажены контакты между казаками и представителями ЮВвО в Боснии. В казачьих мемуарах описан случай встречи и переговоров между командующим ЮВвО Д. Михайловичем и полковником Кононовым, командиром Отдельной казачьей пластунской бригады, в конце 1944 г. — начале 1945 г. в Северной Боснии [341]. Отметим при этом, что, хотя между высшим руководством РОА и лидерами различных направлений сербского антикоммунизма и существовали определенные контакты, возможность личной встречи генерала Михайловича и полковника Кононова представляется сомнительной, т. к. в то время отдельные представители НГХ не жаловали казаков за грабежи местного населения и поддержку сербов, причем трудно сказать, что из этого вызывало большее возмущение [342]. У отдельных представителей НГХ неприязнь к казакам доходила до истеричных припадков, они катались по полу, били ногами и руками о землю и кричали о своей ненависти к «проклятым схизматикам». Имели место и прямые наветы на казаков [343]. Напряженность, существовавшую в отношениях между казаками и хорватской администрацией, высшее руководство НГХ пыталось устранить, награждая государственными наградами офицеров казачьей дивизии, чтобы таким образом показать и им, и местным представителям хорватской администрации союзническую природу отношений между казаками и НГХ. Тем не менее стоит отметить, что трения между усташами и казаками вряд ли имели постоянный характер. Можно предположить, что случавшиеся эксцессы столь красочно были описаны казаками-мемуаристами в контексте самореабилитации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: