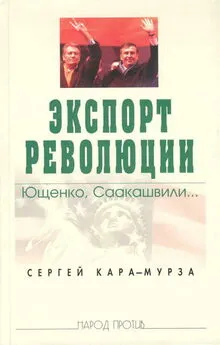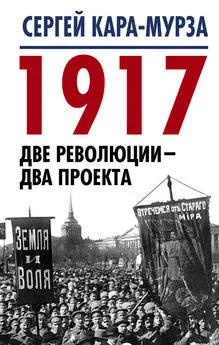Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта
- Название:1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта краткое содержание
1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В другом лагере происходило быстрое размежевание правого и левого течений у меньшевиков и у эсеров. Власть была парализована: одна и та же партия не могла быть одновременно и правительственной и оппозиционной. Военный министр Верховский в отчаянии доказывал во всех инстанциях необходимость срочных решений об армии и мирных переговорах, но правительство уже отключилось от реальности. Меньшевики начали пропагандистскую кампанию и против большевиков, и против Советов, пытались отменить созыв съезда. Керенский 24 октября, когда уже массы солдат и Красной гвардии приготовились к движению, дал команду пресечь попытку большевиков «поднять чернь против существующего порядка». 155
Насколько Временное правительство к осени 1917 г. оказалось оторванным от реальности, видно из того, что буквально накануне Октября Керенский заявил английскому послу Дж. Бьюкенену: «Я желаю того, чтобы они [большевики] вышли на улицу, и тогда я их раздавлю».
Все это здесь говорится, чтобы представить два проекта, которые восемь месяцев были руководствами двух систем управления, принятия и реализации решений — с разными картинами мира и человека, с разной философией, логикой и типом мышления, с разными типами деятельности. В коалиции Февральской революции и Временном правительстве собрались выдающиеся интеллектуалы, они не были ни коррумпированы, ни ленивые, но они мыслили в системе Просвещения ХIХ века, а крестьяне, рабочие и большая часть разночинной интеллигенции мыслили в рациональности иной системы. И эту систему поняла небольшая группа молодых революционеров, которая «доработала» эту систему посредством синтеза ее с представлениями новой, «постклассической» науки. И эта новая картина мира была понята и принята массой населения, сохранившей космическое доиндустриальное мироощущение, но в поиске пути развития и модернизации.
Эту сторону революции история обходит, наше образование к этому нас не подготовило. Философия, на беду, была погружена в идеологические противоречия и компромиссы. Методы и алгоритмы советских мыслителей, проектировщиков, командиров и вообще советских людей активного возраста в период 1900-1960 гг. позже использовались по инерции — и угасали. В какой-то мере этими методами владели представители партийной и государственной элиты, которые организовали «антисоветскую революцию» и поднялись в первый эшелон власти и управления. Но и этот ресурс иссякает, а кроме того, без соответствующей системы ценностей и управлять, и консолидировать общество будет трудно. Это все более очевидно.
Но вернемся к элементам проекта Октябрьской революции после легализации новой власти на II съезде Советов.
ХIХ век был веком интенсивного проектирования форм. Научная, буржуазные и промышленная революции были всплеском изобретения, конструирования и быстрого строительства структур общественного бытия — политических и хозяйственных, образовательных и культурных, военных и информационных. Объектами конструирования были и разные типы человеческих общностей — классы и политические нации, структуры гражданского общества (ассоциации, партии и профсоюзы), политическое подполье и преступный мир нового типа. Важные проекты новых форм делались в виде утопий, футурологических предсказаний или фантастики, более или менее основанной на рациональном знании.
В России проектирование новых форм в ХIХ веке велось как в рамках консервативной доктрины самим правительством, так и относительно радикальными культурными и социальными движениями — либералами и революционными демократами, анархистами и народниками. В начале ХХ века большие проекты новых форм жизнеустройства выдвинули консервативные реформаторы (Столыпин), либералы (кадеты) и большевики. Последние не следовали доктринам и опыту буржуазных западных обществ и государств, а выступили с инновацией «модернизации в обход капитализма». Эта идея народников была превращена в проект, отвечающий новым условиям и России, и внешней среде (в частности, перехода капитализма в фазу империализма и в состоянии Мировой войны).
Тот факт, что в СССР советская власть быстро возродила после 7 лет войн приемлемое жизнеустройство, во многом обязан новым социальным и политическим формам. Очень быстро все население и территория были преобразованы в связные системы двумя сетевыми структурами, следующими общими, а не местными, доктринами и нормами — партией и номенклатурой (изобретенной в 1923 г.). Тот факт, что эти структуры исчерпали к 1960-м годам свой потенциал и требовали обновления — тема совсем другая, большевики за этот период не отвечают.
После Октября была чрезвычайная необходимость в особой властной структуре, не зависящей от Советов. Так, например, была необходима церковь как особая властная инстанция в период раннего феодализма. Другая причина превращения партии в связующий «скелет» государственной системы состояла в том, что Советы — структуры соборного типа. В отличие от парламента с его голосованием, Советы не могли быть быстрыми органами управления. Они выделяли из себя управленческий исполком, а сами искали консенсус («правду») и выполняли легитимирующую роль. Для общества традиционного типа эта роль очень важна, но требовался и форум, на котором велась бы выработка решений через согласование интересов и поиск компромисса. Таким форумом, действующим «за кулисами» Советов, стала партия большевиков, подчиненная центру.
Л.Г. Ионин писал о роли партии во всем советском периоде: «Само существование КПСС как института — независимо от того, как человек относился к партии, сохранял ли он членство или выходил из нее — играло важную роль в деле осознания индивидом собственной идентичности… Она играла роль идентификационной доминанты. И это совершенно безотносительно ее политико-идеологического смысла, а только в силу ее культурной роли. Поэтому когда завершился этап перестроечного, эволюционного развития и началось систематическое разрушение институтов советского общества, запрет КПСС, бывшей ядром советской институциональной системы, сыграл решающую роль в процессах деидентификации… Поэтому распад советской культуры и соответствующих институтов ставил страну в состояние культурного опустошения». 156
Партия связывала институты и нормы и через них соединяла людей в общество. Это было общество иного типа, чем на Западе.
Все главные политические решения большевиков после Февраля были вызваны реальным состоянием страны и соответствовали чаяниям народа. Особый, малоизученный вопрос состоит в том, благодаря каким методологическим принципам большевики «чувствовали» чаяния революционных масс. Ведь между Февралем и Октябрем они следовали не заранее выработанной программе, а предвосхищению хода событий и, говоря современным языком, пониманию самой структуры происходившей в России катастрофы. М. Либер (Бунд) возмущался: «Ложь, что массы идут за большевиками. Наоборот, большевики идут за массами. У них нет никакой программы, они принимают все, что массы выдвигают».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: