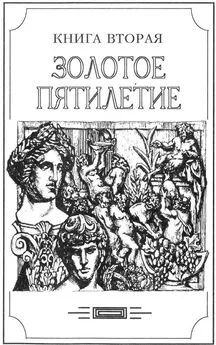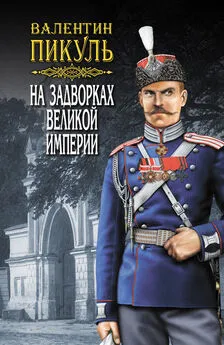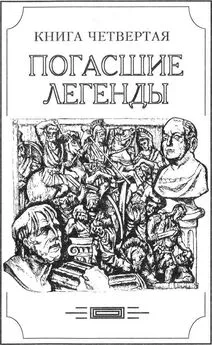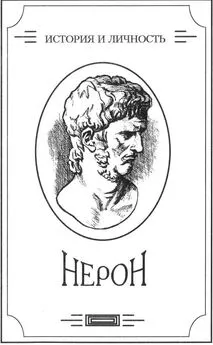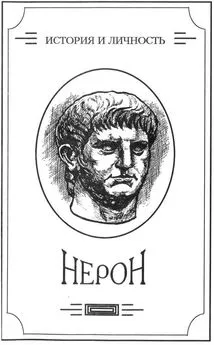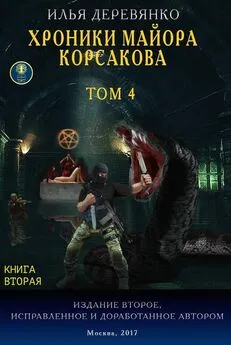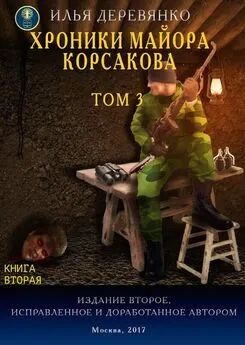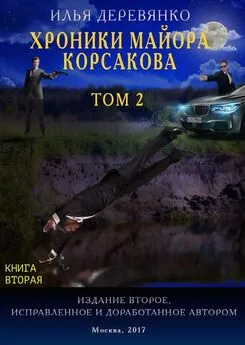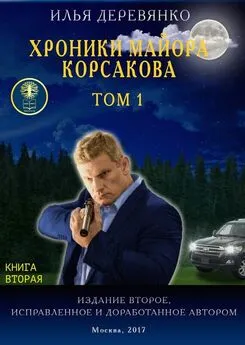Александр Амфитеатров - Зверь из бездны том II (Книга вторая: Золотое пятилетие)
- Название:Зверь из бездны том II (Книга вторая: Золотое пятилетие)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7287-0092-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Амфитеатров - Зверь из бездны том II (Книга вторая: Золотое пятилетие) краткое содержание
Историческое сочинение А. В. Амфитеатрова (1862-1938) “Зверь из бездны” прослеживает жизненный путь Нерона - последнего римского императора из династии Цезарей. Подробное воспроизведение родословной Нерона, натуралистическое описание дворцовых оргий, масштабное изображение великих исторических событий и личностей, использование неожиданных исторических параллелей и, наконец, прекрасный слог делают книгу интересной как для любителей приятного чтения, так и для тонких ценителей интеллектуальной литературы. Прочитав эту книгу, возможно, Вы согласитесь с нами: “Сейчас так уже никто не напишет”.
Зверь из бездны том II (Книга вторая: Золотое пятилетие) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Говоря о расширении Клавдием римского померия, наш Тацит замечает, что раньше то же делали только Сулла и Август — и забывает... Юлия Цезаря! Промах этот, обличаемый Цицероном и Дионом Кассием, был замечен еще Юстом Липсием. Великий энтузиаст Тацита, он должен был, однако, подчеркнуть ошибку:
— Не могу тебя защищать, Корнелий, — напутал! (Non te defendo, Corneli; erras).
Предполагаемый Тацит очень плохо знает географию своего государства (путешествие Германика, театр войны Корбулона и т.п.) и даже его границу, которую он отодвигает, для своих дней, до Красного моря. В затруднении пред этою загадкою текста, комментаторы хотели видеть здесь в Красном море Персидский залив, а в обмолвке Тацита намек на поход Траяна, проникшего с войсками своими до Кармании. Однако, по основательному замечанию Гошара, если бы Тацит хотел сделать Траяну любезность, он мог бы польстить яснее, — для понимания публики, а не для догадок ученых, которые схватились за это предположение только потому, что не остается никакого другого. Серьезно же придавать значение территориального расширения безрезультатному походу-набегу Траяна было бы равносильно тому, как если бы современный Наполеону историк поместил на карте французской империи Смоленск и Москву. Кто бы ни был Тацит, он слишком умен и тонок для подобных крикливых пошлостей. Любопытно, что именно этим местом «Летописи» ученые определяли год ее выхода в свет (после 115 года). Слабость географических знаний Тацита отмечает также Г.Петерь. Картинные деяния героев Тацита всегда висят где-то в пространстве, что особенно заметно, когда он излагает историю какой- либо войны.
В эпизоде гибели Агриппины мы уже видели, что предполагаемый Тацит не знает морского дела. Точно так же слаб он и в деле военном. Это очень странно для государственного человека в античном Риме, который прежде всего воспитывал в своем гражданине солдата, но вполне естественно для ученого в Риме XV века: Поджио Браччиолини был человек кабинетный и менее всего воин. Военного дела он не изучал даже теоретически, как изучил его Макиавелли, и судил о войне по воображению штатского писателя-буржуа да понаслышке. Гошар этим объясняет смутность и расплывчатость большинства военных сцен у Тацита. Действительно, эти приблизительные описания битв и маршей, если сравнить их с явною определенностью движений, описанных настоящим военным, Юлием Цезарем, проигрывают чрезвычайно. Эта военная история написана штатским человеком. Опять таки и в этом суде Гошар может найти авторитетнейшую поддержку со стороны немецких ученых. Моммсен называет Тацита «наименее военным из всех писателей», Асбах уверен, что Тацит никогда не командовал не то что легионом, но даже когортою. Г. Петер находит эти мнения слишком уж крутыми, но признает, что Тацит, будучи прекрасным художником-баталистом, не понимает механизма войны и, например, совершенно не умеет передать движения войск. Он великолепно изобразит боевую схватку, но не расскажет боя, даст чудесную походную сцену, но не объяснит характера и логики похода. На поле брани он — как Фабрицио Стендаля при Ватерлоо или Пьер Безухов Толстого на Бородинском поле. Он не видит войны, пока люди не рубят друг друга в рукопашную и не стреляют в упор.
Гошар ловит псевдо-Тацита на разных второстепенных противоречиях текста. Из них любопытнее других один и тот же эпизод британских войн, который в «Историях» отнесен к эпохе по смерти Нерона, а в «Анналах» — к правлению Клавдия. Громадный список противоречий Тацита приводит Гастон Буассье, что, однако, отнюдь не смущает его относительно как личности, так и достоверности произведений римского историка.
Репутацию подлинности Тацита значительно поддержала в свое время находка в Лионе (1528 года) бронзовых досок с отрывками речи Клавдия в пользу сенатского равноправия галлов, содержания, тождественного с такою же речью того же государя в «Анналах». Гошар указывает, что в текстах Тацита и лионского памятника тождественна только общая идея, но не развитие речи, не говоря уже о выражениях и тоне. Если лионские бронзы — подлинный памятник официального акта, то Тацит почему-то совершенно отверг его авторитет и написал свою собственную речь приблизительно на ту же тему, но с другими ссылками и примерами. Гошар убедительно доказывает, что автор Тацита не видал лионских бронзовых досок. Но, вот, может быть, автор лионских досок знал уже Тацита? В таком случае, текст их — такая же искусственная и свободная амплификация соответствующего места в «Анналах», как сами «Анналы» — сводная амплификация Светония, Диона Кассия, Плутарха и др. По мнению Гошара, бронзовые лионские доски — ловкая подделка XV века. Наоборот, для Низара он — доказательство, будто Тацит до такой степени опасался исказить историю чуждыми ей украшениями, что не помещал речей иначе, как в подлинных текстах. Он, конечно, не переписывал их дословно, сокращал, сжимал и пр., но сохранил основные положения и ничего не выдумывал сам. Низар находил, что между текстом Тацита и таблиц только та разница, что историк опустил некоторые местные и частные подробности и совершенно безполезное рассуждение о происхождении царя Сервия и названий Цэлийского холма. Г. Петер думает, что, располагая сенатскими протоколами либо газетным материалом (Acta urbis), Тацит сочинил речь, очень близкую по содержанию к той, которую действительно произнес Клавдий и которая записана на лионских досках. Но, по важному тону своей «Летописи», исключающему юмор, он облагородил ее, выкинул курьезные подробности, в которых Клавдий выдает свой мелочный и бестолковый ум, и тем обезличил речь. Вообще, речам героев Тацита Петер приглашает не доверять, так как у него есть манера вытравлять из передачи личность говорящего и приближать слог и тон к обычному условному ораторству форума. Не удивительно поэтому, — замечает Г. Петер, если мы в «Анналах» (XIV, 11) не находим ничего соответствующего тому письму, которое Сенека от имени Нерона послал сенату и сильную фразу из которого сообщает Квинтилиан (VIII, 5): Salvum me esse adhuc nec credo, nec gaudeo. Квинтилиан восхищается во фразе этой эффектом удвоения: facit sententias sola geminatio. Тацит нашел ее, вероятно, слишком изысканною для данного трагического момента, спрятал театральность Сенеки, как выше — комизм Клавдия.
Исчислив множество ошибок, которых не мог сделать римлянин первого века, Гошар отмечает те из них, которые обличают в авторе человека с мировоззрением и традициями века XV. Когда Тацит говорит о Лондоне, как городе, уже знаменитом богатою и оживленною торговлей, это, — для Гошара — конечно, слова не римлянина первого века, но впечатления Поджио Браччиолини, который именно в Лондоне и изобрел свою идею «найти Тацита». Доказательнее другой пример. Говоря о парфянских неурядицах в правлении Клавдия, мнимый Тацит заставляет Мегердата взять «Ниневию, древнейшую столицу Ассирии». Между тем, в это время Ниневия не только не существовала уже несколько веков, но даже развилины ее были потеряны (etiam periere ruinae). Исчезновение Ниневии последовательно свидетельствуют на протяжении добрых восьмисот лет Геродот, пророки израильские, Страбон, Плиний и, наконец, Лукиан. Откуда же могла эта очевидная обмолвка вскочить в текст «Анналов?» Ее подсказало христианское воображение, напитанное Библией и отцами церкви, хорошо знакомое с библейскою географией. А так как у Аммиана Марцеллина, которого Поджио знал великолепно, упоминается городок Малой Азии, на Черном море, Нинос или Нинис, как бы одноименный с Ниневией, то автору показалось соблазнительно повторить одинокое и ошибочное упоминание Блаженного Иеронима (конец IV века по Р.Х.), будто в его время на месте предполагаемых руин Ниневии снова начала развиваться жизнь, и воскресить столицу древней Ассирии. Тот же христианский, а не римский взгляд заставляет лже-Тацита видеть в обрезании исключительно иудейский обычай, установленный с целью выделить евреев из среды других народов (ut diversitate noscantur). Обрезание было религиозным символом в Египте, Сирии, у народов финикийского происхождения, до Карфагена включительно. Писатель-римлянин эпохи, когда египетский Нил и Сирийский Оронт «впадали в Тибр», не мог не знать этого. Но в христианстве культы африканских и сирийских религий стерты были с лица земли и забылись; для средних веков и для эпохи Возрождения обрезанец — либо мусульманин, либо еврей. Мусульмане для «Тацита», конечно, исключаются, — остаются одни евреи, которых обособленность он и спешить поставить в строку, не подозревая, что потомство, развивая историческое исследование, поймает на этой подробности его христианскую мысль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: