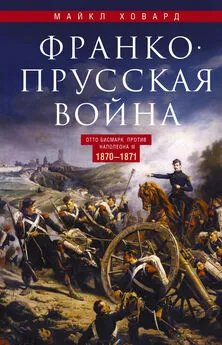Виктор Безотосный - Все сражения русской армии 1804‑1814. Россия против Наполеона
- Название:Все сражения русской армии 1804‑1814. Россия против Наполеона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Безотосный - Все сражения русской армии 1804‑1814. Россия против Наполеона краткое содержание
Все сражения русской армии 1804‑1814. Россия против Наполеона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В целом нам приходится признать, что российская императорская армия являлась составной частью крепостнического государства. Рядовой состав комплектовался на основе рекрутских наборов и системы «очередности» – более 50% это были бывшие крепостные крестьяне, остальные выходцы из государственных крестьян и мещанских обществ. Для населения империи это была самая тяжелая «подать». Причем чаще всего в рекруты попадали люди, от которых в первую очередь по разным причинам стремились избавиться помещики или крестьянские и мещанские общины («буйные и ненадежные элементы»). Небольшой процент поступления в армию давали так называемые «солдатские дети» (кантонисты) – дети, рожденные солдатами в браке, считавшиеся собственностью военного ведомства. Потомственные дворяне составляли более 80% офицерских кадров. Причем значительная часть офицеров являлось беспоместными дворянами. Идея службы Отечеству являлась ключевым элементом политического сознания этого сословия, хотя по законам империи (Манифест 1762 г.) его представители могли и не служить. На службу дворяне поступали добровольно, причем предпочтение отдавалось не гражданской, а именно военной службе, приоритет которой был несравненно выше. Это рассматривалось как почетная обязанность каждого дворянина; служба являлась, по существу, сословнообразующим признаком дворянства. Лишь 10–15% заканчивали военно‑учебные заведения и поступали в войска уже офицерами, подавляющая часть начинали служить нижними чинами, затем унтер‑офицерами (в среднем от 1 до 3 лет), а лишь потом получали патент на офицерский чин. Хотя среди офицеров имелся, судя по формулярным спискам, значительный процент выходцев из сословия «обер‑офицерских детей» (в армейской практике они почти приравнивались к дворянам), т. е. потомков солдат, получивших за многолетнюю службу офицерский чин благодаря грамотности и, чаще всего, храбрости на полях сражений. Необходимо указать, что для рядового солдата имелась реальная возможность при удачном раскладе получить (после 12 лет «беспорочной» службы в унтер‑офицерском чине или за проявленную храбрость) офицерские знаки отличия и перейти в разряд так называемых «бурбонов» (получить права на личное дворянство, не имея соответствующего происхождения).
В армейских полках к 1805 г. продолжали еще служить значительное количество солдат и офицеров – свидетелей и носителей славных суворовских традиций («чудо‑богатырей»), несмотря на господствовавший тогда «плац‑парад». Армия имела явные плюсы – являлась профессиональной (служба продолжалась 25 лет) и мононациональной, основу составляли православные – русские, украинцы, белорусы; большинство инородцев освобождались от службы в регулярной армии. Крайне тяжелые условия службы, постоянное нахождение в сфере действия жесткой дисциплины и наказания за провинности приводили к частым побегам, в войсках была высокая смертность из‑за скудного питания. В российской армии к этому времени господствовала полковая система, накладывавшая на армейские порядки особый дух. Полковая система заключалась в крайне развитых формах корпоративности, когда каждый, от нижнего чина до полковника или генерала, ощущал себя членом определенной полковой семьи, существовавшей по жестким иерархическим законам. Эта атмосфера позволяла создавать и поддерживать специфические традиции и обычаи, присущие как всей армии в целом, так и определенному полку. Основой для существования со временем становилось полковое и артельное самосознание, характерное для выходцев из крестьянской общины. Принадлежность к полку и полковая артель (ведение общего хозяйства) воспитывали дух полкового и боевого товарищества, честь полкового мундира – было не просто слово. Солдаты чаще руководствовались примером товарищей (прежде всего ветеранов), а не призывами о защите Бога, Царя и Отечества, хотя этот официоз также воздействовал на солдатскую массу. Элиту армии составляли гвардейские полки, где проходили службу на офицерских вакансиях представители российской аристократии и богатые дворяне (бедные за неимением средств переводились в армейские полки), а нижние чины подбирались из крепких и высоких солдат хорошего и благонравного поведения. Особый род войск представляли иррегулярные формирования, служившие по образцу донских казачьих полков: кроме донцов, черноморские, терские, астраханские, бугские, чугуевские, уральские, оренбуржские, сибирские казаки, а также национальные полки башкир, калмыков, тептярей, мещяриков, крымских татар и др. Иррегулярные полки, по существу, являлись настоящей легкой конницей, так как в отличие от регулярной кавалерии не имели колесных обозов, были неприхотливы в походах и использовали дедовскую тактику степняков, необычную для европейских армий.
Необходимо отметить, что в то время российская армия обладала многими пороками, свойственным армиям феодальных государств Европы в области обучения войск, организационного построения и ведения тактики военных действий. В среде высшего военного руководства России не смогли вовремя адекватно оценить и учесть современные веяния и тенденции развития военного дела в Европе. В данном случае приходится признать, что Александр I в большей степени ориентировался лишь на предшествующие успехи, добытые русскими штыками, чем на объективную оценку. Сам же император по поводу военной сферы находился в плену представлений, внушенных ему отцом. Армия ему представлялась как идеальный марширующий механизм, четко исполняющий все регламенты и приказы своего императора. О том, что война – это более сложное явление – с кровью, потом, миллионом случайностей, не говоря уже о новых тенденциях в военном деле, он не задумывался; все его представления об армии и его опыт командования войсками исходил из многочисленных и красочных прохождениий полков церемониальным шагом в С.‑Петербурге и показных маневрах в Красном Селе. Необходимо заметить, не только он один, но, по‑видимому, все дворянское общество все еще тогда находилось в определенной эйфории от славных викторий победного века Екатерины и ожидало от чтения в газетах новых победоносных реляций об успехах русского оружия. Александр I, следуя по стопам общественного мнения, явно надеялся командовать будущим военным парадом где‑нибудь в центре Европы, но действительность очень скоро опровергла его ожидания, ибо на континенте уже имелись другие претенденты (профессионалы, а не новички) на триумфы, умевшие хорошо руководить войсками на поле боя, а не на парадах. Во всяком случае, личные представления Александра I о войне и армии сыграли негативную роль во внешней политике, так как русский монарх был очень высокого мнения о мощи собственных вооруженных сил и на этом строил свой курс по отношению к потенциальным союзникам и противникам. Мало того, исходя из этого, он решился на военную конфронтацию с самой передовой европейской военной державой – Францией, во главе которой стоял, без преувеличения, лучший тогдашний полководец и военный организатор, Наполеон Бонапарт. Но вряд ли кто‑то будет сомневаться, что у Александра I в тот период имелись сомнения в целесообразности коалиции и в будущем ее успехе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
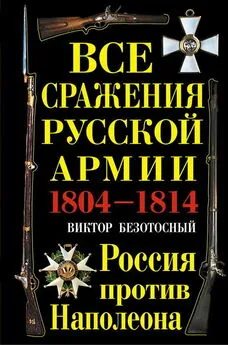
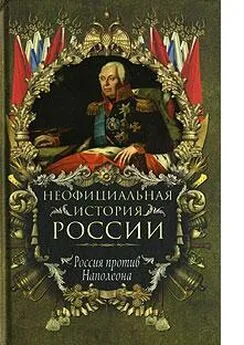
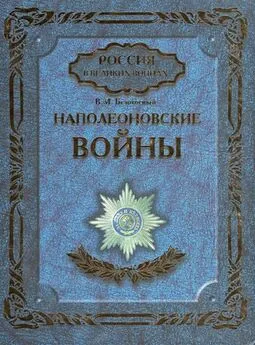

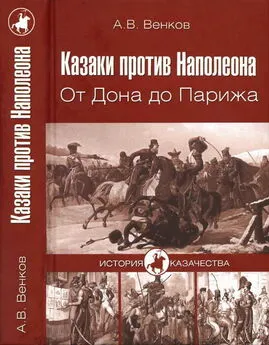

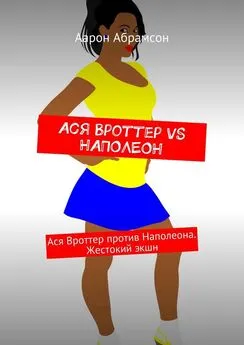
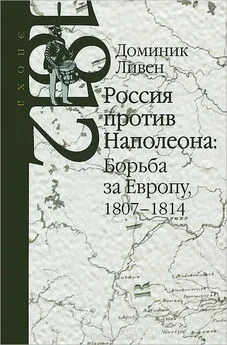
![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)