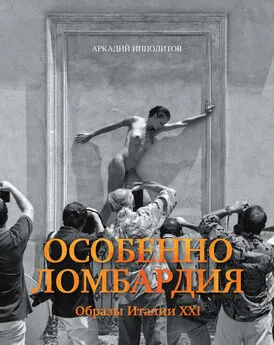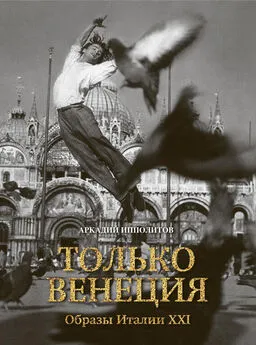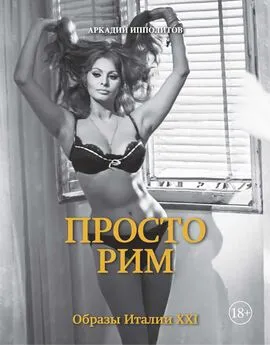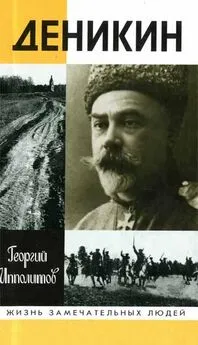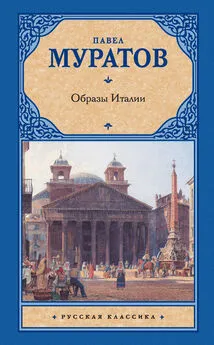Аркадий Ипполитов - Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI
- Название:Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-0434
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Ипполитов - Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI краткое содержание
Ломбардии, которое могут себе позволить только избранные. Такая Италия – редкий, дорогой, почти недоступный подарок. Аркадий Ипполитов, писатель, ученый-искусствовед, знаток-путешественник, ведя читателя на самую блестящую из всех возможных экскурсий, не только рассказывает, что посмотреть, но и открывает, как увидеть. Замки, соборы, дворцы, картины, улицы, площади, статуи и рестораны оживают, становятся знакомы, интересны, дышат подробностями и обретают мимику Леонардо, Арчимбольдо, Наполеона…
Картезианцы и шартрез, гусиная колбаса и «глупая говядина», миланские гадалки и гримасничающие маскароны… Первое желание читающего – вооружившись книжкой, срочно лететь в Италию и увидеть ее новыми глазами.
Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Энергетика и цвета, и звучания azzurro сродни энергии озерных жительниц, бывших дамами весьма деятельными. К озерным девам относятся и Феврония из града Китежа, и английская чаровница Вивиана, фея, тесно связанная с королем Артуром, дядей Мелюзины, носительница титула Lady of the Lake, Дамы Озера; Вивиана воспитала Ланселота Озерного, Lancelot of the Lake. Мелюзина с Жизелью – девы Озера, так же как и Одетта с Одиллией; характер у дев Озера особый, их все время тянет к людям, они готовы им делать добро, а не одно лишь зло, как все время елозящие и более истеричные речные русалки, вроде Лорелеи, заманивавшей и убивавшей моряков из чистого садизма. При своей активности суеты озерные девы не терпят, нет в них корысти, обычно с суетой связанной; они спокойны, но – в тихом омуте черти водятся. Плавность движений, внешне выглядящая как медлительность, но полная внутренней, глубинной напряженности, свойственна и девам Озера, и озерным городам, – правда, о господи, что же делать с Чикаго? да ничего не делать, я уверен, что в скором времени Чикаго со своими пятью из десяти самых высоких зданий в США и десятью из пятидесяти самых высоких зданий в мире превратится, как и Детройт, в город-призрак. Детройт же – вылитая Жизель, и энергетика у этого города, как у утопленника.
К девам Озера, по-моему, относится и La Belle Dame sans Merci; недаром героиню моего любимого стихотворения Джона Китса вспоминает Муратов среди замкового лабиринта, цитируя: I saw pale kings and princes too, Pale warriors, death pale were they all; Who cried “La belle dame sans merci Hath thee in thrall!” («Смертельно-бледных королей И рыцарей увидел я. “Страшись! La Belle Dame sans Merci Владычица твоя!”»). La Belle Dame, девушка в лугах, дитя пленительное фей, чей гибок стан, воздушен шаг, дик блеск очей, тоже деятельна в своем коллекционировании смертельно-бледных королей и рыцарей, и не корыстна, и не суетна, и, хотя она и прекрасная безжалостная дама, не то чтобы очень жестока, никого не убивает, не то что Лорелея; жертвы ее живы: «Вот почему скитаюсь я Один, угрюм и бледнолиц, Здесь по холмам… Трава мертва. Не слышно птиц». С озером La Belle Dame sans Merci тесно связана, стихотворение начинается строчками:O, what can ail thee, knight-at-arms,
Alone and palely loitering;
The sedge has withered from the lake,
And no birds sing.
Зачем здесь, рыцарь, бродишь ты
Один, угрюм и бледнолиц?
Осока в озере мертва,
Не слышно птиц.
и, когда La Belle Dame sans Merci проходит по покоям герцогского замка, капли, стекающие с ее волос и одежд, образуют лужицы воды на каменных полах. В следах, оставленных ею, светится озерная голубизна, она пронзительно свежа и открыта, она как порыв ветра сквозь внезапно распахнувшееся окно, и Муратов, конечно, этого свечения не мог не заметить.
Самый светлый след оставлен La Belle Dame sans Merci на потолке одного из залов Палаццо Дукале; я, конечно, имею в виду oculo, «глаз», плафона La Camera degli Sposi, Ла Камера дельи Спози, Брачного Чертога, расписанного Андреа Мантеньей. Зал этот – главный туристический аттракцион Мантуи и так знаменит, что описывать его нет никакой надобности: о нем опубликованы тонны книг, в том числе и на русском языке. Там мы можем прочесть имена всех изображенных, подробный рассказ об их судьбах, рассуждения о величии Мантеньи, о его классицизме и о всемирном Камеры дельи Спози значении. К этой литературе я и отсылаю читателя, не останавливаясь на описании этой лучшей в мире картины придворной жизни, посвященной конкретному семейству маркизов Гонзага – герцогами они стали позже, в 1530 году. Фрески La Camera degli Sposi можно назвать групповым портретом, и Мантенья в каждом отдельном портрете сохраняет объективность кинокамеры, – точнее было бы сказать, что кинокамера объективность у Мантеньи заимствует. Как заимствует Висконти, когда он снимает длинную панораму польского семейства в «Смерти в Венеции»: в самом начале фильма кинокамера подчеркнуто долго останавливается на лице каждого члена польского семейства, сидящего в холле гостиницы, прямо-таки насильно заставляя зрителя пристально эти лица, иначе бы зрителем и не замеченные, рассмотреть, каждое лицо прочувствовать и о каждом лице размышлять. Благодаря Висконти мы понимаем, что человеческое лицо сообщает нам о времени и об истории больше, чем любое неодушевленное историческое свидетельство. Вся сцена в холле – сюжетная прелюдия к фильму, все ждут Тадзио, но, как в гениальных произведениях и бывает, прелюдия Висконти перерастает сюжет, превратившись в прелюдию к XX столетию, а фильм «Смерть в Венеции» именно о нем. Человек, как заметил Андрей Белый, – «чело века». Но каждое чело – индивидуально; каждое, как человеческому лицу быть подобает, хотя это и не всегда так, одухотворено; одухотворенность и индивидуальность – пропуск в вечность, в отличие от пресловутого «типического», – и именно духовность и индивидуальность ставят человека выше века, времени и истории. Век, конечно, человека определяет, но без человека века просто нет, да и времени нет тоже, – поэтому, кто от кого зависит, большой вопрос. Особый взгляд на лица, присущий Висконти, не случайно напоминает о Мантенье и Камере дельи Спози: оба внятно нам объясняют, что век создается человеческими лицами, или, точнее, художником, способным объединить индивидуальность с духовностью и в лице отразить чело века.
Мантенья чуть ли не первым в европейском искусстве приметы повседневности – придворную жизнь в данном случае – превращает в миф, и на его фресках персонажи герцогского семейства, со своими столь индивидуальными лицами, прекрасны и величественны, как герои Гомера. Но «как» не означает тождество, и миф Мантеньи, как вы понимаете, уже немного не гомеровский – индивидуальность мешает, – это миф нового времени и ведет прямо к «Мифологиям» Ролана Барта, так как придворная жизнь отнюдь не «Илиада». Двор поверхностен, пуст и бессмысленен, и поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее, чем придворные и их отношения; а вот поди ж ты, благодаря Мантенье все эти Лудовико Гонзага и Барбары Бранденбургские обрели гомеровское величие, хотя только то, что Мантенья, двор обслуживая, их физиономии запечатлел, и отличает Гонзага от Лужковых и Матвиенко, которых маркизы Гонзага ничем не были замечательнее и о принадлежащем им городе заботились ни больше ни меньше, чем эти двое. Зато Мантенья решает все, лужковы с матвиенками исчезнут в потоке времени – что они, кстати, уже и сделали, исчезли, – а Гонзага останутся, причем Лудовико с Барбарой только благодаря Мантенье будут возвышаться над временем, как скалы – многие современные им властители, когда-то не менее, чем Гонзага, могущественные, во времени потонули безвозвратно. Все прошло, но Гонзага вместе с любимой собачкой маркиза по кличке Рубино – история услужливо донесла до нас даже это, – свернувшейся под троном Лудовико, остались; причем песик Рубино теперь во времени – и в истории – значит больше, чем многие другие принцы из дома Гонзага, блистательные, но Мантеньей не увековеченные.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: