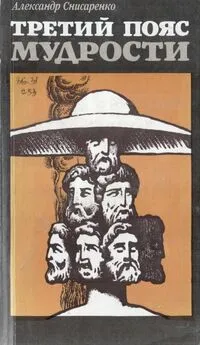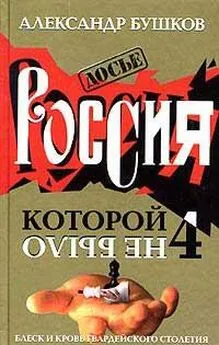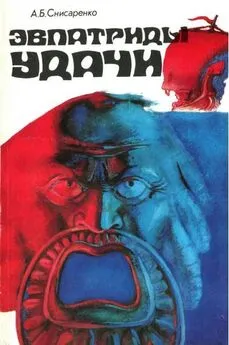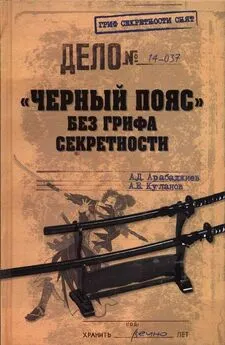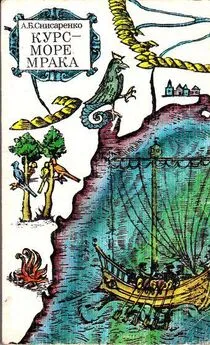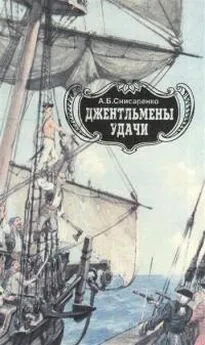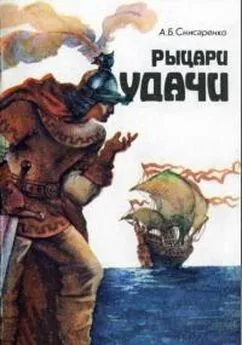Александр Снисаренко - Третий пояс мудрости. (Блеск языческой Европы)
- Название:Третий пояс мудрости. (Блеск языческой Европы)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛЕНИЗДАТ
- Год:1989
- Город:Ленинград
- ISBN:5-289-00254-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Снисаренко - Третий пояс мудрости. (Блеск языческой Европы) краткое содержание
В книге рассказывается об интересном, но малоисследованном вопросе о месте славян в ряду других народов Европы, об их происхождении и мифологии, о времени возникновения тех или иных верований, их противоборстве и единстве с христианскими легендами.
Автор убедительно опровергает измышления о некоем «особом пути развития славян», об их «варварстве», о «загадочной славянской душе». Книга написана популярно, преимущественно на малоизвестном материале, содержит интересные гипотезы.
Рассчитана на массового читателя, всех, кто интересуется историей европейской культуры.
Третий пояс мудрости. (Блеск языческой Европы) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мокош и Макош… На каком-то этапе, как и в случае с Кощеем и Кащеем, здесь произошло удвоение имен рез чередование гласных (мокрый — макать), а потом и неизбежная неразбериха, породившая разноречивые сказки и легенды. Макош из «брата» Мокоша превратился в его «сестру»: это видно хотя бы на примере богемско — моравской подательницы дождя Макослы. Имя это восходит к санскритскому макха — богатство, а без дождя какое же плодородие, какое богатство? Если Мокош как бог смерти неплохо подходит на роль мужской ипостаси Мораны, то Макошь (теперь уже женщина) составила бы недурную пару Велесу как богу богатства. Велес принадлежит эпохе скотоводов, когда понятия «скот» и «богатство» слились. Макошь же — божество земледельцев, подразумевавших под богатством нечто иное. Оба эти божества прекрасно уживались друг с другом — как сами скотоводы и земледельцы.
Когда и как Макха стала Макошью — этого теперь уже никто не скажет. Но что тут сыграло роль созвучие архаического имени двум более близким и понятным славянам понятиям — гадать не приходится. «Ма» чуть ли не на всех индоевропейских языках означает мать. Что же до слова «кош», то толковый словарь русского языка дает три его значения: плетеный из прутьев шалаш или загон (особенно для овец — кошара), поселок запорожцев (отсюда — кошевой) и большая плетеная корзина (кошелка, лукошко, кошель). Первое значение возвращает нас к статуе Мокоша, состоявшей из звериных голов: либо он был еще и покровителем домашнего скота, что всего вернее, либо богом — охотником. А третье значение слова «кош» заставляет снова вспомнить дождливую Макослу. Недаром, по свидетельствам летописцев, до введения культа Перуна Макошь почитали вместе с берегинями (русалками), тесно связанными с луной и водой, а также с упырями, питающимися кровью. Возможно, она, как Род, была поклонницей красного цвета — исконно русского. Другое описание Макоши сближает ее прежде всего с феями (хотя можно вспомнить и Мойр, Норн, Парок) — это большеголовая и длиннорукая женщина, прядущая по ночам. Шерсть же для пряжи дают, как известно, овцы — обитатели кошары. С домашними животными связывалась и Косларейца, любившая принимать облик кошки… Так в киевской Макоши соединился культ двух божеств — покровителей животных и полей. Существует также предположение, что это была женская ипостась Перуна или даже его жена. Ей была посвящена пятница — следующий день после Перунова.
Если в Киеве действительно стояли храмы и алтари «всем славянским богам», то в нем, кроме нам уже известных, должны были почитаться, например, польский Датан — податель счастья, удачи и обильного урожая, а также покровитель заимодавцев; богемско — моравская богиня хлеборобов Живена; защитник полевых и иных плодов у вендов и померанцев Крикко, почитавшийся вместе с Курко и Зилсбогом, ведавшим луной, охотой и плодородием полей; польские боги поля и пашни Лавкапатим и Модейна (в лесистых местностях Модейна считалась «хозяйкой леса» и составляла пару Дивериксу — оба они выступали в заячьем облике); прусско — литовский Смик — бог всего, что растет в первой борозде (кто переступал эту борозду — оскорблял бога, как Рем своим прыжком через борозду, проведенную Ромулом, подписал себе смертный приговор); приветливая прусская Явинна, благословлявшая рост и развитие посевов.
Все они выполняли одну функцию, возложенную на Макошь руссами (а точнее, русинами — так назывались украинцы, русняки, червоноруссы и австрийские галичане). Заботиться о животных ей помогали польские охранитель телят и ягнят Курвайчин, Кремара (Хрюшка), особенно неравнодушная к свиньям (ее поили пивом и медом, оставляя их у горящего очага), ее ближайший родственник Крук, тоже защитник свиней и другой домашней живности, а вдобавок покровитель кузнецов. Ласдона (Ветвистая) охраняла молодые кустарники, особенно орешники. Кирн заботился о плодоношении вишен, если во время сожжения жертвы не забывали прикрепить на вишневое дерево горящую свечу. Зосим вместе с Бубилсом и его женой Аукштайей охранял пчел. К помощи Мьехутеле взывали при сборе лесных трав для окрашивания тканей.
Если Макошь была еще и богиней охоты, то ей близка польско — богемско — русская Зевана. А вендский Ипабог, почитавшийся в Радигощи и на Руяне, сам напоминал своим видом статую Мокоша — его диспропорциональный трехглавый истукан, облаченный в грубую одежду до колен с каймой по ее нижнему краю, с отвратительным лицом, заросшим густой клинообразной бородой и свисающими еще ниже незавитыми усами, имел глубокие глазные впадины, а на одной голове красовалась круглая рогатая каска с закругленными зубцами по ее окружности.
Связующим звеном между двумя подательницами плодородия — Ладой и Макошью — была Дшидшелья, или Дшивона, вобравшая в себя все их функции. Эта юная богиня охоты, вооруженная луком и колчаном, в высоко подвязанной легкой одежде, стала доброй провожатой охотников. Она приносила им удачу, укрощала диких зверей, но, в отличие от недотроги Артемиды, охотно дарила свою благосклонность молодым, красивым и храбрым охотникам. Ее именем стали нарекать новорожденных, чтобы они выросли достойными внимания Дшидшельи, и довольно скоро она превратилась в богиню любви, а позднее, под именем Дшидшинлы, — в богиню брака.
Не меньшим правом на популярность пользовались в Киеве и сыны Сварога — Дажьбог, родоначальник руссов, считавшийся мужским вариантом Сречи, персонифицировавший солнце, его свет и тепло, и безымянный Сварожич, или Божич, которому молились в свинарниках и овинах, — олицетворение огня земного, нередко изображавшийся в виде златорогого оленя. Сварожи — чем — главным богом лютичей — иногда называют Радегаста, а Г. Глинка явно смешивает Дажьбога со Свантевитом: «Световид», по его мнению, — это «солнце, жизненная теплота». Отсюда пошла ошибка, будто в Арконе в день летнего солнцестояния отмечался праздник Свантевита. Скорее, это был день Дажьбога. Но какое имя он носил на Руяне — неизвестно, тем более что Дажьбог упоминается Г. Глинкой отдельной строкой как податель «благополучия». В качестве же «начального огня, эфира» он называет Зничь, то есть Жничь. Такое божество действительно почиталось в Киеве в виде вечного, неугасимого огня, исцеляющего больных и страждущих. Не исключено, что это восточнославянский вариант Флинса. Жничь, по всей видимости, посвящался богу медицины и фармакологии Хореи. Но и тут загвоздка: если вспомнить его статую, упомянутую выше, можно недоумевать, почему Хореи иногда считают божеством пирушек и попоек, вроде Бахуса. Очевидно, на том основании, что в Киеве он изображался обнаженным, с виноградным венком на голове, сидящим на опрокинутой бочке, и что в жертву ему приносили пиво и медовый напиток?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: