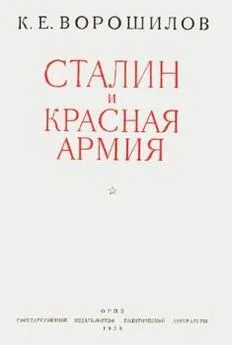Андрей Смирнов - Крах 1941 – репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин Красную Армию?
- Название:Крах 1941 – репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин Красную Армию?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Яуза»
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-47257-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Смирнов - Крах 1941 – репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин Красную Армию? краткое содержание
До сих пор антисталинская пропаганда пытается объяснить сокрушительный разгром Красной Армии в начале войны массовыми репрессиями 1937–1938 годов, которые якобы «истребили советскую военную элиту», «обезглавили» и «подкосили» вооруженные силы, предопределив катастрофу 41-го года. Дескать, если бы тем летом войсками командовали не бездарные сталинские выдвиженцы и неучи-«кавалеристы», а такие «военные профессионалы», как Тухачевский, Якир, Уборевич, трагедии можно было избежать и вся война пошла бы по совсем иному, куда более благоприятному для СССР сценарию…
Новая книга ведущего военного историка не оставляет от этих мифов камня на камне. Основываясь не на пропагандистских штампах, а на подлинных архивных документах, сравнив уровень боевой подготовки РККА до и после репрессий, данное исследование убедительно доказывает, что предвоенная «чистка» Красной Армии фактически не повлияла на ее боеготовность, а значит, причины трагедии 1941 года, как и неудач на Хасане и в ходе Финской войны, следует искать не в «сталинских репрессиях», а совсем в другом. В чем именно? Читайте эту сенсационную книгу!
Крах 1941 – репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин Красную Армию? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Командарм-15 В.Н. Курдюмов на апрельском совещании указал также на неумение пехотных подразделений применяться к местности.
Особенно безобразной была подготовленность бойцов, призванных из запаса (многие из которых вообще никогда не проходили военной подготовки). Как указывали многие участники апрельского совещания, «запас прибывал почти совершенно необученным», а то и совсем «необученным» 239. Проверка состояния и хода боевой подготовки, проведенная в начале февраля 1940 г. в 32-м, 33-м, 34-м, 68-м, 78-м, 113-м и 114-м запасных стрелковых полках ЛВО, обнаружила, что бойцы не только «не знают твердо своих обязанностей в различных видах боя и боевой службы (особенно в охранении)», но и «не научены правильной технике действий в бою (перебежки, переползания, использование укрытий и маскировка)» 240.
Общим местом советских и финских источников является констатация неумения советской пехоты вести бой на лыжах.
Однако о «недооценке» одиночной подготовки бойца-пехотинца – недооценке, которая «идет по всей линии снизу доверху» и приводит к тому, что на маневрах боец «оказывается неумелым в боевых действиях», т. е. фактически о том же низком уровне выучки одиночного бойца, помполит 3-го стрелкового корпуса МВО Т.К. Говорухин докладывал еще в сентябре 1935-го 241. При этом он ссылался на спущенный сверху расчет времени на подготовку бойца; значит, низким уровнем одиночной выучки пехотинца должен был тогда отличаться не один лишь Московский округ…
«Слабая подготовка одиночного бойца» советской пехоты прямо констатировалась и в 36-м (в директиве наркома обороны № 400115с от 17 мая 1936 г. 242), и в «дорепрессионной» первой половине 37-го. «Одиночный боец, – указывалось в директивном письме А.И. Егорова от 27 июня 1937 г., – не имеет твердых навыков в перебежках, переползаниях, в выборе места для стрельбы, наблюдения и проч.» 243. Как мы могли убедиться в предыдущих главах, такая картина была тогда и в трех самых крупных военных округах (о «неудовлетворительной одиночной подготовке бойца» одного из них – ОКДВА – прямо и не раз говорило тогда даже ее командование 244).
Ближний бой даже в передовом КВО – и согласно даже его «отлакированному» годовому отчету от 4 октября 1936 г.! – «находился» «лишь в стадии освоения» и в 36-м. «Слабыми навыками ближнего боя» – и опять-таки согласно годовому отчету самой этой армии от 30 сентября 1936 г. – отличались тогда и пехотинцы начинавшей уже воевать ОКДВА 245. «Распоясывание» вместо ближнего боя стабильно демонстрировала на «предрепрессионных» тактических учениях и пехота передового БВО – и 27-я стрелковая дивизия на Лепельском учении в марте 1935-го, и элитная 2-я стрелковая на Белорусских маневрах в сентябре 1936-го, и, видимо, все остальные (ведь «подготовка дивизий» БВО, отмечал наблюдавший за Белорусскими маневрами А.И. Седякин, «отличается большой равномерностью»).
В ОКДВА «совершенное отсутствие» «навыков и практических сноровок в искусстве ведения ближнего боя» констатировалось и перед самым началом массовых репрессий, в отчете штаба армии от 18 мая 1937 г. 246.
Неумение применять в атаке перебежки и переползания в Красной Армии было обычным явлением и в 1935-м – когда оно было зафиксировано в половине стрелковых дивизий трех самых крупных военных округов, материалы тогдашних проверок тактической выучки которых сохранились (в 21-й, 27-й и 37-й). К маю 36-го технику перебежек (как призналось Москве в своем докладе от 5 мая 1936 г. политуправление округа) не отработали как следует во всем передовом (!) КВО, к июлю – в двух из трех проверенных тогда УБП РККА стрелковых дивизий передового БВО (во 2-й и 33-й), а к началу чистки РККА (как мы уже видели из директивного письма А.И. Егорова от 27 июня 1937 г.) – во всей Красной Армии…
Что же до нежелания или неумения маскироваться и окапываться , то о том, что «маскировка и лопата во время наступления» бойцами «нередко применяется слабо», А.И. Егоров докладывал Военному совету еще 8 декабря 1935 г. Судя по общему извиняющемуся тону доклада, слово «нередко» было вставлено лишь для того, чтобы оценка не звучала слишком резкой. И действительно, весной 35-го плохая маскировка бойцов на поле боя была налицо в 4 из 6 дивизий УВО/КВО, БВО и ОКДВА, по которым сохранились материалы проверок тактической выучки (в 21-й, 27-й, 37-й и 40-й), а осенью – в 2 из 3 проверенных тогда 2-м отделом Штаба РККА стрелковых дивизиях БВО (в 29-й и 43-й) и в обоих соединениях ОКДВА (18-м стрелковом корпусе и 34-й стрелковой дивизии), от которых сохранились годовые отчеты за 1935-й. А самоокапыванием в ходе наступления пренебрегали – по меньшей мере в считавшейся одной из лучших в РККА 24-й стрелковой дивизии – даже на «образцово-показательных» Киевских маневрах 1935 г.
К маю 36-го «достаточной маскировки» не умели добиться во всей пехоте передового КВО; в выведенном на Полесские маневры его 15-м стрелковом корпусе маскировка оказалась «слаба» и в августе – и лишь в 100-й стрелковой дивизии на сентябрьских Шепетовских маневрах она оказалась «хорошей»… 247В передовом же БВО еще летом – осенью 1936-го бойцы плохо маскировались в 3 из 5 стрелковых дивизий, по которым сохранилась соответствующая информация (во 2-й, 33-й и 37-й; во всех трех они еще и не желали окапываться), а в ОКДВА – в 4 из 7 (в 66-й, 69-й, 104-й и 105-й).
Согласно директивному письму А.И. Егорова от 27 июня 1937 г., «маскировка и самоокапывание» в пехоте РККА были «слабы» и перед самым началом массовых репрессий 248.
Атака в лесу даже в дислоцировавшейся в лесистой местности Приморской группе ОКДВА была (как вытекает из приказа командующего группой И.Ф. Федько № 0517 от 15 ноября 1935 г.) слабо отработана и в 35-м.
Вести бой в траншее бойцы уже начинавшей воевать с японцами ОКДВА не умели (как заключил отчет штаба армии от 18 мая 1937 г.) и перед началом чистки РККА.
Что до умения идти в атаке за танком, то пехота 5-й и 43-й стрелковых дивизий БВО на Полоцких учениях 4 октября 1936 г. делала это «отлично» – но в КВО «постоянно и тесно взаимодействовать» с танками (а значит, и не отрываться от них в атаке) пехотинцы (как подытожил приказ комвойсками КВО № 0100 от 22 июня 1937 г.) не умели и накануне чистки РККА… 249
Что до плохой подготовки пехотных подразделений и обусловленной ею скученности боевых порядков атакующей пехоты , то «слабая дисциплина боевых порядков, большое сгущение таковых» в Красной Армии также встречались и в 35-м. Докладывая об этом 8 декабря 1935 г. на Военном совете, А.И. Егоров опять употребил слово «иногда», но, как мы уже не раз отмечали, его докладу явно было присуще стремление смягчить выводы. То, что у них имелись (и не «иногда», а «зачастую»!) «случаи слишком большого сгущения боевых порядков», признали тогда даже составители очковтирательского по существу годового отчета КВО от 11 октября 1935 г. (а округ этот, напомним, ходил в передовых)… 250
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: