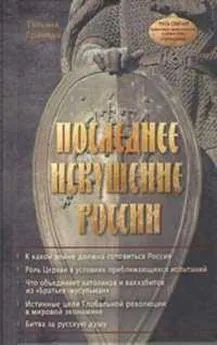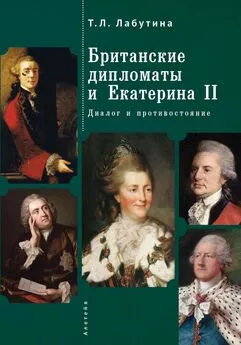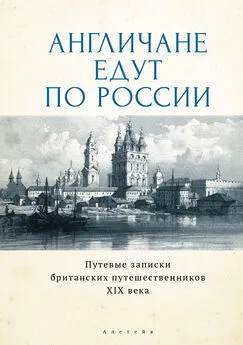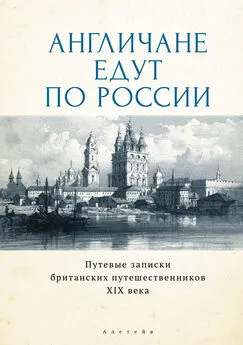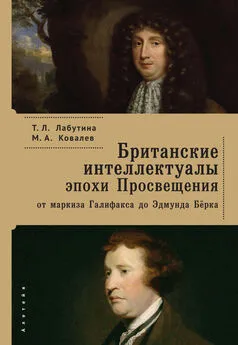Татьяна Лабутина - Англичане в допетровской России
- Название:Англичане в допетровской России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91419-492-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Лабутина - Англичане в допетровской России краткое содержание
Англичане в допетровской России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не только армейские специалисты, но и кораблестроители из Британии стали появляться в Русском государстве. Как писал В. О. Ключевский, «мысли о флоте, о гаванях, о морской торговле начали сильно занимать и московское правительство уже с половины XVII века». Помышляли нанять в Голландии корабельных плотников и людей, способных управлять морскими кораблями [349] Ключевский В. О . Указ. соч. Т. III. С. 251.
. Англичанин Виниус предложил построить гребной флот на Каспийском море. По царскому указу от 1667 г. в Коломенском уезде, на Оке, в селе Дединово было заложен первый русский корабль «Орел». Ключевский полагал, что строили его голландцы, но не обошлось и без участия британских мастеров. К примеру, полковник К. Бокковен, участвовавший в строительстве корабля, состоял с П. Гордоном в родстве. Корабль спустили на воду, однако в 1670 г. он был захвачен и сожжен мятежниками Степана Разина.
Среди английских специалистов при дворе особое место со времен Ивана Грозного занимали аптекари и врачи. Наибольшую известность среди них приобрел личный врач царя Алексея Михайловича — С. Коллинс. Около 9 лет он пробыл при царском дворе, в 1666 г. по собственной просьбе уволился и с многочисленными подарками и похвальным аттестатом отбыл на родину. В 1674 г. он издал книгу «Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне», в которой делился своими впечатлениями об увиденном в стране и при дворе. Менее известным в России был врач-хирург Джон Эннанд, лечивший от горячки П. Гордона.
Интерес к западной культуре в царствование Алексея Михайловича проявлялся также в сфере литературы и образования. Начиная с 1649 г., по приглашению царя в Москву из Печорской лавры прибыли ученые монахи Е. Славенецкий, А. Сатановский, Д. Птицкий. Они занялись переводами с греческого различных трудов. Вскоре появились переводные издания: «География», «Книга врачевской анатомии», «Гражданство и обучение нравов детских», «О граде царском». К переводу привлекали и других специалистов. Так, немецкий переводчик фон Дельден подготовил несколько книг, переведенных с латинского и французского языков, а австрийский посол Дорн перевел краткую космографию. Начали распространяться переводные лечебники. Все это указывало, на взгляд Ключевского, на «пробуждение научного интереса» в России [350] Там же. С. 260.
.
Отличительной чертой образовательной системы в правление Алексея Михайловича стало приглашение в дома сановников иностранных учителей. Чаще всего это были учителя из Польши. Сам царь приказал своих детей Алексея, Федора и Софью обучать польскому языку. Его ближайшее окружение: бояре Морозов, Тяпкин, Ордин-Нащокин обучали своих сыновей латинскому, греческому и польскому языкам. Сын Ордин-Нащокина настолько увлекся западной культурой, что решил бежать за границу. Наследник посланника в Польше Тяпкина, обучавшийся в польской школе, волею случая оказался представлен в Львове королю Яну Собескому. Он произнес речь на польско-латинском языке, за что был вознагражден королем сотней злотых и 15 аршинами красного бархата.
Западное влияние прослеживалось и в интересе царя и его ближайшего окружения к балам и театральным зрелищам. Русских послов инструктировали на предмет изучения увеселений при дворах европейских монархов. Дворянин Лихачев, строго следуя данным указаниям, находясь в 1659 г. на придворном балу во Флоренции, послал в Москву грамоту с детальным описанием подобного увеселения.
Бесспорным достижением культурной жизни России при «тишайшем» царе сделался театр [351] Подробнее о первом русском театре см. Главу VIII.
. А вскоре придворные познакомились и с балетом. В 1674 г. «на заговенье» царь с царицей, детьми и боярами смотрели в Преображенском комедию, после чего немцы и дворовые люди посланника Матвеева играли на «фиолях, органах и на страментах и танцевали». «Так почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании, — констатировал В.О.Ключевский. — Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой» [352] Ключевский В. О . Т. III. С. 264.
.
Придворный быт также испытал на себе западное влияние при царе Алексее Михайловиче. Подражая иностранцам, царь и бояре начали разъезжать по Москве в «нарядных немецких каретах, обитых бархатом, с хрустальными стеклами, украшенных живописью». Бояре и богатые купцы строили каменные палаты, заводили обстановку на иноземный лад, обивали стены «золотыми кожами» бельгийской работы, украшали покои картинами, часами. Царь подарил своему любимцу, свояку Б. Морозову свадебную карету, «обтянутую золотой парчой, подбитую дорогим соболем и окованную чистым серебром», даже шины на колесах кареты были серебряные.
Проводником западной культуры в Москве становилась новая Немецкая или Иноземная слобода, основанная в 1652 г. на реке Яузе. На месте бывших немецких дворов отвели участки «по чину и званию» каждого «немца». По свидетельствам одного из них — Мейерберга, посетившего Москву в 1660 г., в слободе проживало «множество иностранцев», имелось три лютеранских церкви и одна реформаторская, а также немецкая школа. То был «уголок Западной Европы, приютившийся на восточной окраине Москвы» [353] Там же. С. 254.
. На взгляд С. М. Соловьева, служилые иноземцы были «совершеннейшими космополитами», равнодушными к судьбам страны, их приютившей, преследующими свои исключительно меркантильные интересы. «Трудно было сыскать между ними кого-нибудь с научным образованием, — отмечал историк, — такие люди не пошли бы в наемные дружины, но это были обыкновенно люди живые, развитые, много видевшие, имевшие много кое о чем порассказать, приятные и веселые собеседники, любившие хорошо, весело пожить, попировать за полночь, беззаботные» [354] Соловьев С. М . Указ. соч. Т. 13. М., 1991. С. 167.
.
Судя по утверждению В. О. Ключевского, царь Алексей Михайлович подвергся значительному влиянию западной культуры. Он «ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную потеху, «комедийные действа» с музыкой и танцами, поил допьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в трубы трубил и в органы играл», дал детям учителя, который обучал их латинскому и польскому языкам [355] Ключевский В. О . Т. III. С. 309.
.
Не отставало от царя в подражании и заимствовании элементов западноевропейской культуры и его ближайшее окружение: А. Л. Ордин-Нащокин, Ф. М. Ртищев, Н. И. Романов, Б. И. Морозов, А. С. Матвеев. Наиболее заметной фигурой среди них был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Провинциальный дворянин из Пскова, дослужившийся до чина государственного канцлера исключительно благодаря своим знаниям, талантам и способностям, он неплохо знал математику, латынь, польский и немецкий языки. Все это пригодилось ему на дипломатической службе. Его сослуживцы говорили, что он хорошо знает «немецкое дело и немецкие обычаи». Вскоре Ордин-Нащокин прославился, как ревностный поклонник Западной Европы и «жестокий критик отечественного быта». «Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравилось иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем «неглупого подражателя» своих обычаев». Неудивительно, что недоброжелатели нередко называли Ордин-Нащокина «иноземцем» [356] Там же. С. 317–318.
. Зато иностранцы высоко его ценили. С. Коллинс характеризовал Ордин-Нащокина, как человека «неподкупного, строго воздержанного, неутомимого в делах». На его взгляд, Ордин-Нащокин «великий политик, очень важный и мудрый государственный министр, и может быть, не уступит ни одному из министров европейских». Нам представляется, что столь высокая оценка Ордин-Нащокина не в последнюю очередь была дана английским врачом потому, что канцлер считался «единственным покровителем англичан» в правительстве [357] Коллинс С. С . 33–34.
.
Интервал:
Закладка:
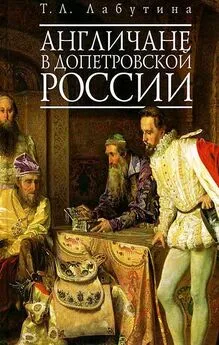
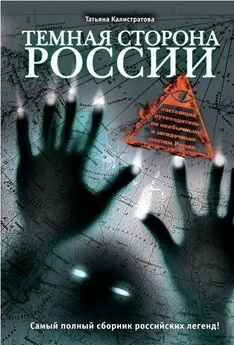
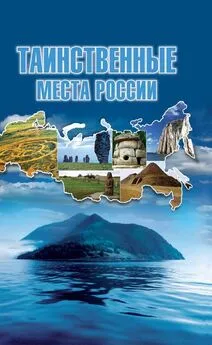


![Татьяна Лабутина - Британские интеллектуалы эпохи Просвещения [от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка]](/books/1064514/tatyana-labutina-britanskie-intellektualy-epohi-pr.webp)