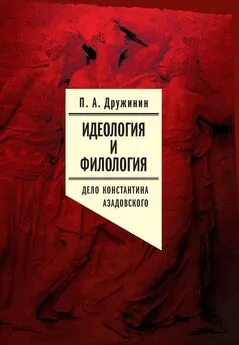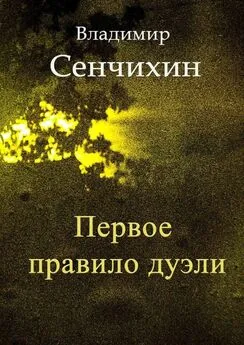Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Название:Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская панорама
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93165-014-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование краткое содержание
В Приложениях опубликованы кавказские заметки декабриста В.С. Толстого и неизвестная статья В.А. Мануйлова о тайне происхождения Ю.М. Лермонтова.
Загадка последней дуэли. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Не знаю, продолжал ли он свои колкости во время вызова, только мне Глебов ничего об них не говорил. Переданный мне ответ <���был> [88]состоял, что он готов исполнить мою волю. — Миролюбивых предложений никаких не было сделано> он мне не делал. — Васильчиков и Глебов напоминали мне взаимные наши отношения и тесную связь, которая до сего времени существовала между нами, желая через то убедить меня взять назад вызов» [147, 58].
Второй вариант ответа был более подробным:
«Не знаю, продолжал ли он свои колкости во время вызова, только мне Глебов об них не говорил. — Переданный мне ответ состоял в простом согласии <���исполнить мое желание> без всяких миролюбивых предложений <���его с своей стороны>. Васильчиков и Глебов напоминали мне взаимные наши> прежние мои отношения с ним и тесную связь, которая до сего времени существовала между нами <���желая через то убедить меня взять назад вызов>, желая кончить <���миролюбиво> <���дружелюбно> это дело дружелюбно» [147, 60].
Как видим, настоящей попытки примирения предпринято не было. Но в изображении некоторых современных исследователей картина выглядит иначе. Вот как описывала преддуэльные дни лермонтовед Т. А. Иванова:
«А по Пятигорску носится взволнованный Дорохов и убеждает секундантов развести, разъединить на время противников, чтобы легче было их примирить. Опытный дуэлянт, он знает все средства к примирению и учит этому секундантов. Но и среди секундантов есть не менее опытный дуэлянт, знаток дуэльного кодекса Столыпин-Монго. Лермонтов говорит секундантам, что он готов извиниться, что он не будет стрелять в Мартынова. Но секунданты не передают этого Мартынову. Он чем дальше, тем больше разгорается, точно кто-то все время подливает масла в огонь. О дуэли идут разговоры по городу, и пятигорские власти знают о ней, но мер не принимают, чтобы ее предотвратить» [98,116].
Вся эта изобилующая деталями картина — плод воображения исследователя. На самом деле, ничего подобного не было и обвинять Столыпина в его скрытых злых намерениях против Лермонтова никак нельзя [89]. То, что ссора Лермонтова и Мартынова носила частный характер, и о ней знали немногие, находит подтверждение в воспоминаниях современников поэта, которых сохранилось множество [90]. Некоторые рассказы обросли занимательными подробностями и домыслами, как, например, сообщение племянника уже упоминавшегося нами В.Н. Дикова, опубликованное С. Белоконем [91].
Другую причину дуэли назвал и Михаил Сергеевич Павлуцкий, отставной военный врач, в письме на имя редактора журнала «Русская Старина». Это письмо было реакцией на публикацию в 14-м томе журнала за 1875 год воспоминаний о Лермонтове Я.И. Костенецкого. Письмо это хранилось в архиве редакции журнала и не было опубликовано. М. Павлуцкий писал о своей встрече с Н. Мартыновым в Киеве в 1842 году. Появление Мартынова в городе
…возбудило общее внимание, а молодежь всеми силами старалась узнать всю подробность от самого виновника ея.
Успех был полный и обнаружил такую хлестаковщину в кружках нашей тогдашней молодежи высшего полета, что не знали, чему более удивляться — ея ли невежеству или легкому взгляду на жизнь человека? Мартынов сделался отвратительным для всех интеллигентных людей после открытия истины. Мартынова в Пятигорске его приятели дразнили не M-ieuv le grand poignard, а просто — мартышкой . Оставьте обстоятельства, — писал далее Павлуцкий, — описанные господином Костенецким в их виде и замените «Господин большой кинжал» словом мартышка и Вы получите вполне действительную причину дуэли, лишившей нас великого поэта» [13, оп. 4, д. 103, лл. 1об—2].
Возвращаясь к ответам Мартынова на вопросы следственной комиссии, можно найти косвенное подтверждение того, что настоящей попытки именно примирить противников не сделал никто, и, главное, сам Мартынов не слишком хотел избежать дуэли. В своих ответах он написал (первая редакция): «На другой день описанного мною происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов. — Уверившись, что они все это говорят от себя, но что со стороны Лермонтова нет даже <���признака> и тени сожаления о случившемся, — я сказал им, что не могу этого сделать, — что <���после этого> мне на другой же день, <���может быть> пришлось бы с ним <���через платок стреляться> пойти на ножи.
Они настаивали; < к нему> <���с ним> ожидает <���нас> в Кисловодске и что все это будет <���уничтожено> <���нарушено> расстроено моей глупой историей.
Чтобы выйти из неприятного положения человека, который мешает веселиться другим, — я сказал им, чтоб они сделали воззвание к самим себе: поступили ли бы они иначе на моем месте. После этого меня уже никто больше <���не уговаривали> <���никто> не уговаривал» [147, 53).
Во второй редакции, сохранившейся в следственном деле и написанной после «консультации» с секундантами, Мартынов ответил более обстоятельно: «Васильчиков и Глебов старались всеми силами помирить меня с ним; но так как они не <���имели никакого полномочия> могли сказать мне ничего от его имени от <���Лермонтова> и <���просто> <���и только> <���а только> <���уговаривать только> хотели меня <���отказаться отвызова> взять <���назад> <���моего> мой назад: я не мог на это согласиться. Я отвечал им: что я уже сделал шаг к сохранению мира <���за три недели перед тем> <���тому назад>, прося его оставить свои шутки <���и быть со мной при всех, так как он бывал>, что он пренебрег этим и что сверх того теперь уже было поздно, когда он сам надоумил меня <���что> в том, что мне нужно было делать. — В особенности я сильно упирался на <���этот> совет, который он мне дал накануне и показывал им, что <���он> что этот совет <���он> был не что иное как вызов. — После еще <���с их стороны> нескольких <���неудачных> попыток с их стороны они убедились, что <���меня> уговорить меня взять назад вызов есть дело невозможное». Сбоку, напротив ответа, Мартынов написал: «а только хотели уговорить меня взять назад вызов» [147, 55].
Итак, ознакомившись со множеством документов, можно утверждать, что единственным поводом к дуэли были насмешки Лермонтова над Мартыновым. Лермонтов сам провоцировал Мартынова на вызов, подсказывая, что тому следовало делать. Всерьез предстоящую дуэль никто не воспринимал. Настоящие попытки примирить соперников не предпринимались , скорее, все готовились к новому развлечению, разнообразившему жизнь на Водах.
Выдвигать версию о заговоре против поэта — значит не считаться со множеством очевидных фактов, свидетельствами огромного числа современников. Хочется еще раз подчеркнуть, что в Петербурге даже не было известно, что Лермонтов находится в Пятигорске. Версия о существовании заговора и появившееся в 30-е годы XX века «документальное» обоснование — продукт эпохи, наполненной вымыслами о заговорах и врагах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: