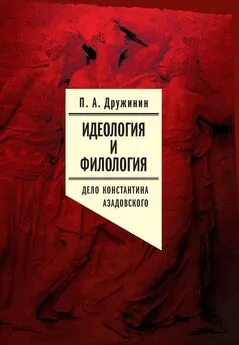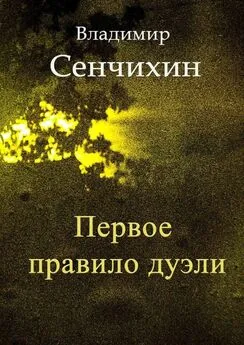Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Название:Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская панорама
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93165-014-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование краткое содержание
В Приложениях опубликованы кавказские заметки декабриста В.С. Толстого и неизвестная статья В.А. Мануйлова о тайне происхождения Ю.М. Лермонтова.
Загадка последней дуэли. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Скорбили все друзья и родственники [120]поэта. 18 сентября 1841 года М.А. Лопухина пишет все той же А.М. Верещагиной (Хюгель): «Последние известия о моей сестре Бахметевой (Вареньке Лопухиной. — В.З .) поистине печальны. Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву — она отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля, поскольку эти обстоятельства так близко сходятся, что это не может не возбудить известных подозрений. Какое несчастье эта смерть; бедная бабушка самая несчастная женщина, какую я знаю. Она была в Москве, но до моего приезда; я очень огорчена, что не видала ее. Говорят, у нее отнялись ноги и она не может двигаться. Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта . Впрочем, я полагаю, что мне нет надобности описывать все подробности, поскольку ваша тетка, которая ее видала, вам, конечно, об этом расскажет. В течение нескольких недель я не могу освободиться от мысли об этой смерти, и искренно ее оплакиваю. Я его действительно очень, очень любила» [59, 55–56].
(Впоследствии Елизавета Алексеевна Арсеньева добилась разрешения на перезахоронение тела Лермонтова, которое состоялось 23 апреля 1842 года в Тарханах. Умерла она в 1845 году, и захоронена рядом с могилой внука [121]).
Со слов М.П. Погодина: когда «проконсул Кавказа» прославленный генерал А.П. Ермолов узнал о гибели Лермонтова, он сказал: «Уже я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да вынувши часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный: таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься» [207, II, 240].
Известие о гибели поэта прокатилось по России. Первое сообщение было опубликовано в провинции. 2 августа газета «Одесский вестник» сообщила: «Здесь получено из Пятигорска прискорбное известие о кончине М.Ю. Лермонтова, одного из любимейших русских поэтов и прозаиков, последовавшей 15-го минувшего июля. В бумагах его найдено несколько небольших, не конченных пьес».
В следующем номере этой же газеты в статье А. Андреевского, содержащей самую разнообразную информацию, сообщалось также: «Погода в Пятигорске стоит довольно хорошая. Сильные жары прохлаждаются порывами ветра. Маленькие дожди перепадали изредка. Но 15-го июля, около 5-ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался лечившийся в г. Пятигорске М.Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда, бездыханное тело поэта… Кто не читал его сочинений, проникнутых тем глубоким чувством, которое находит отпечаток в душе каждого?» [25].
Последующие отклики на это печальное событие были менее выразительны. Исключение составило сообщение в петербургской «Литературной газете», в номере от 9 августа, издаваемой другом Лермонтова А.А. Краевским: «Первая новость наша печальная. Русская литература лишилась одного из талантливейших своих поэтов. По известиям с Кавказа, в последних числах прошедшего месяца скончался там М.Ю. Лермонтов. Молодой поэт, столь счастливо начавший свое литературное поприще и со временем обещавший нам замену Пушкину, преждевременно нашел смерть. Нельзя не пожалеть, что столь свежий, своеобразный талант не достиг полного своего развития; от пера Лермонтова можно было ожидать многого».
Письмо кузины
В окружении любого великого человека можно встретить немало женщин. У них разные судьбы, они по-разному воспринимались современниками и потомками. О некоторых их них мы знаем совсем немного.
Из всех писем Екатерины Григорьевны Быховец, правнучатой сестры Лермонтова, до нас дошло только одно. Это письмо было одним из первых по времени свидетельств о трагической кончине Лермонтова и именно поэтому чрезвычайно интересно. Впервые оно было напечатано более ста лет назад, однако скептицизм по отношению к этому эпистолярному памятнику не пропадал никогда, несмотря на то, что Быховец была, вероятно, единственной женщиной, с которой виделся и разговаривал поэт за несколько часов до своей гибели.
Письмо Е. Быховец, датированное 5 августа 1841 года и отправленное из Пятигорска, было опубликовано в 1892 году в третьей книжке «Русской старины». Как сообщалось в публикации, оно было случайно найдено в 1891 г. среди листов книги, купленной у букиниста в Самаре учеником 7 класса Самарского Реального училища Акербломом. На бумаге, в которую оно было завернуто, кто-то написал: «Письмо Катеньки Быховец, ныне госпожи Ивановской, с описанием последних дней жизни Лермонтова».
Это письмо ни разу не перепечатывалось в том виде, в котором оно было впервые опубликовано М. Семевским. Приведем его полностью (в соответствии с копией, хранящейся в рукописном отделе Пушкинского Дома) [13, ф. 524, оп. 4, № 111]:
«Пятигорск, 1841 августа 5-го, Понедельник [122]
Бесценный мой дружочек, Лизочка! Как я тебе позавидовала, моя душечка [123], что ты была в Успенском. О! как бы я дорого дала, чтобы провести это время с вами; как бы мы приятно его провели; воображаю, как мамаша тебе обрадовалась, моему милому [124]дружочку; она с такою радостью мне описывает, что Манюшка к ней очень ласкова. Ваш бал был очень хорош; тебя удивляет, что все так переменились. Я не знаю, что сделалось с Тарусовым уездом, от куда Танюшка учится этим гримасам, и так уж она на гримасу похожа, некому без меня ее останавливать.
Как же весело провела время этот день. Молодыя люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шалями; колонны обиты [125]цветами, и люстры все из цветов: танцевали мы на площадке около грота; лавочки были обиты прелестными коврами; освещено было чудесно; вечер очаровательный небо было так чисто; деревья от освещения необыкновенно хороши были, аллея также освещена и в конце аллеи была уборная прехорошенькая; два хора музыки. Конфект, фрукт, мороженного беспрестанно подавали; танцевали до упада; молодежь была так любезна, занимала своих гостей; ужинали; после ужина опять танцевали; даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел; оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов, как cousin [126]предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей и он до дому меня проводил.
Мы с ним так дружны были — он мне правнучатый брат — и всегда называл cousine [127], а я его cousin и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем charmante cousine [128]Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: