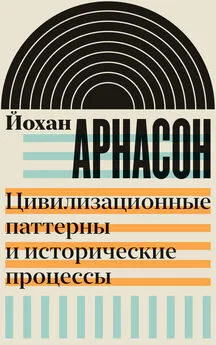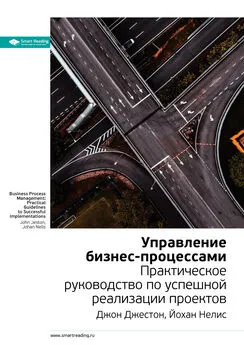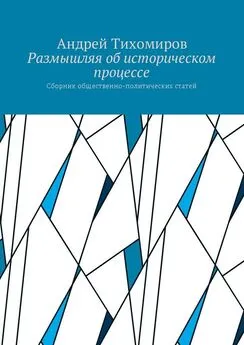Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Название:Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816134
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы краткое содержание
Цивилизационные паттерны и исторические процессы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Объяснения и интерпретации: спорные альтернативы
Обсуждавшиеся выше терминологические проблемы касались способов определения революций. На другом уровне анализа можно указать на аналогичные расхождения между попытками их описания: иногда это делается в терминах причинности, а иногда с помощью интерпретативных моделей. Здесь, как и прежде, я буду различать четыре типа противоречий, и хотя в данном случае не существует строгой корреляции с вопросами дефиниций, некоторые переклички все-таки присутствуют.
Наиболее заметные разногласия у теоретиков революции вызывает вопрос о сравнительной важности власти и идеологии, и голоса, ставящие в центр внимания власть, в последние годы звучат всё громче. Мы лучше поймем их доминирование и их специфику, если выйдем за пределы марксизма. Здесь чрезвычайно важной представляется эволюция от концепции Бэррингтона Мура 83 83 Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, MA: Beacon Press, 1967.
к работам Теды Скочпол 84 84 Skocpol T. Op. cit.
. Марксистский взгляд на революцию как высшую форму классовой борьбы был весьма влиятельным далеко за пределами ортодоксального марксизма, и написанная Муром сравнительная история все еще оставалась в зоне этого влияния. Ученый утверждал, что объяснение переходов к современному миру вообще и к политической модерности в частности возможно только в терминах более сложного, чем у Маркса и его последователей, подхода. Это особенно относилось к более важному, чем представлялось историкам прежде, участию в этом процессе землевладельцев и крестьян, как самих по себе, так и в меняющихся классовых союзах. Что касается Скочпол, то она вовсе вышла за пределы классового подхода, сконцентрировавшись на проблемах власти и рассматривая государство как главный противовес понятию «класс». Отсюда ее сравнительный анализ трех великих модерных революций с акцентом на важных изменениях в структуре государств. Во Франции, России и Китае революционные кризисы охватили государства, ослабленные вовлеченностью в международные конфликты. Кризисы вели к мобилизации социальных сил, чьи конфликты и инициативы приводили к широкомасштабным трансформациям социального порядка. Затем революционные процессы заканчивались, сменяясь реконструкцией затронутых ими государств в новых и более мощных формах.
Книга Скочпол о революциях, по-видимому, повлияла на последующие дискуссии по данному вопросу в большей мере, чем какая-либо другая. Некоторые отклики на нее ставили задачу дать более точное определение властным полномочиям и проблемам государства. В этой связи полезны замечания, сделанные Джеффом Гудвином 85 85 Goodwin J. State-centered approaches to social revolutions: Strengths and limitations of a theoretical tradition // Foran J. (Ed.) Theorizing Revolutions. London: Routledge, 1997. P. 12–13.
. Он различает четыре варианта «этатистской модели» в интерпретации революций. Подход с точки зрения государственной автономии выделяет особые «идентичности, интересы, идеологии и… линии действия» государственных чиновников. Второй подход подчеркивает важность ресурсов, которыми государство обладает или которые оно может мобилизовать. Третий сосредоточен на политических возможностях, создаваемых государством для политических групп. И наконец, есть еще «государственно-конструктивистский» подход, при котором подчеркивается вовлеченность государства в создание гражданского общества. Но при более пристальном взгляде все эти подходы предстают просто различными эманациями одной основной исследовательской перспективы, и при желании их перечень может быть продолжен. Можно добавить, например, важные для понимания исторических событий и небесполезные для анализа революций замечания Майкла Манна о внутренних конфликтах и дисфункциональностях государственных структур. Однако общим знаменателем в любом случае является подход с позиций автономии государства, который был бы неполным без отсылки к возможностям и ресурсам, а также односторонним, если бы учитывал только характеристики и возможности элит, не принимая во внимание логику институций и преуменьшая, а то и вовсе не признавая роль деструктивных факторов внутри самого государства. Роль государства в создании гражданского общества – особенно важный аспект в понимании автономии самого государства.
В критических отзывах о работе Скочпол – слишком многочисленных, чтобы обсуждать их здесь подробно, – указывалось на односторонность ее тезисов и на определенные тематические зияния. Принятый исследовательницей сравнительный подход оказался под двойным ударом. Одни считали недопустимым выводить устойчивые, близкие к законам, корреляции на основании всего трех примеров, каждый из которых нуждается в дальнейшей контекстуализации. Другие критики – те, кто полагал, что каждая революционная ситуация по-своему сложна и неповторима, – выдвигали на первый план два фактора: лидерство и идеологию, оказавшиеся маргинальными в концепции Скочпол, которая старалась переключить внимание от теоретизирования об акторах на структуры. Идеология для наших целей важнее: по большому счету именно она определяет и взгляды лидеров, и их привлекательность для последователей. Но идеологию можно анализировать и на более общем уровне, как конститутивный коррелят власти, поскольку последняя всегда детерминирована культурой. Вплоть до нашего времени, однако, идеологические аспекты революций изучались в основном только по отношению к отдельным случаям. Франсуа Фюре, предложивший переоценку идеологической подоплеки и наследия Французской революции, рассуждал так: революционный миф – включающий, что немаловажно, и якобинский фантазм, – является уникальным историческим образованием, и созданный в XX веке коммунистический миф был производным от него 86 86 Furet F. Interpreting the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
. Сходным образом историки, изучающие большевистский переворот и его сталинское продолжение как обретение власти «идеократией», подчеркивают навязывание идеологии разрушенному и фрагментированному обществу 87 87 Наиболее системную версию этой аргументации см.: Malia M. The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917–1991. New York: Free Press, 1995.
. Насколько мне известно, до сих пор не доказана возможность аналогичного подхода к китайскому коммунизму. Что касается Иранской революции, то одни авторы подчеркивали решающую роль идеологии воинствующего ислама 88 88 Arjomand S. A. The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran. Oxford: Oxford University Press, 1989.
, в то время как другие пытались показать, что изменения в государственном строительстве были более фундаментальными 89 89 Skocpol T. Rentier state and Shia Islam in the Iranian revolution // Theory and Society. 1982. № 2 (3). P. 256–283.
, даже если в их ходе традиционалистская религиозная элита сумела «оседлать» революционные силы. Трудно указать работу, содержащую сравнительно-исторический анализ роли идеологического фактора в революциях, которую можно было бы противопоставить рассуждениям Скочпол о властных структурах в период кризиса и трансформаций. Не предпринималось и систематических попыток совместить и теоретически осмыслить результаты углубленного исторического исследования этих двух сторон революционных явлений.
Интервал:
Закладка: