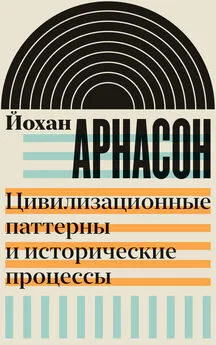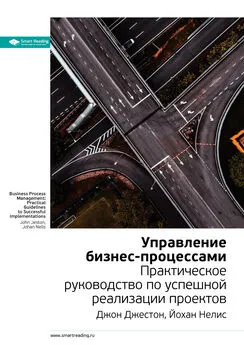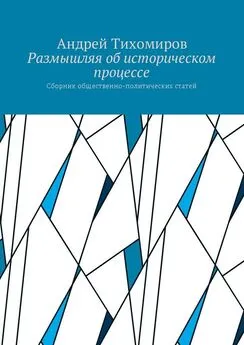Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Название:Цивилизационные паттерны и исторические процессы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816134
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йохан Арнасон - Цивилизационные паттерны и исторические процессы краткое содержание
Цивилизационные паттерны и исторические процессы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одна из ключевых тем социологической традиции, различным образом разрабатывавшаяся классиками и выделенная в качестве общей для них историками этой дисциплины, заключается в парадоксе человеческого действия: одновременное расширение возможностей трансформации посредством человеческого действия и формирование массивных структур, которые подавляют стремящихся к свободе индивидов. Огромные «машины» модерности (капитализм, бюрократия, организованная наука), к которым обращался Макс Вебер, воплощают вторую из данных тенденций. Что отличает эту загадку модерности от более общей проблемы действия и структуры, так это поляризующаяся радикализация обеих сторон. Если этим была обеспокоена уже классическая социология, мы могли бы задать вопрос о том, что может добавить к такой картине интерпретация модерности как новой цивилизации. Ответ, по-видимому, состоит в том, что она помогает объяснить попытки преодоления этой дилеммы. Они включают утопию классового сознания, способного заполнить разрыв между частными и общими интересами, которая была возведена на уровень научного знания и тем самым позволила захватить власть аппаратам, остававшимся вне контроля снизу. Совсем иной вариацией на данную тему стал образ, точнее призрак, харизматического лидера, обладающего миссией и последователями, достаточно сильными, чтобы подчинить силы безличной рациональности и организационные ограничения. Размышления Макса Вебера на эту тему хорошо известны, и в критических комментариях к ним нередко отмечалось вызывающее беспокойство сходство с реальными диктаторами. Наконец, неолиберальное понятие предустановленной гармонии между индивидуальными интересами и рыночными механизмами, сопровождающейся отступлением государства, также принадлежит к идеологическому семейству проектов, направленных на преодоление вышеупомянутой дилеммы. Во всех трех случаях, сколь бы они ни различались между собой, цивилизационная тема автономии развита в видение господства над противоречиями модерности.
Эти противостоящие друг другу, но взаимосвязанные идеологические модели порождают еще один вопрос. Их конфликты служат примером антиномий модерности. Как уже отмечалось, Эйзенштадт часто подчеркивал этот аспект современного мира, но требуется некоторое прояснение данной идеи. Общепринятая философская идея антиномии, очевидно, неприменима в этом контексте; данный термин используется здесь менее строго и может быть понят как относящийся к противоречащим друг другу интерпретациям общих культурных предпосылок. Основным примером для Эйзенштадта выступал конфликт между тотализирующей и плюралистической концепциями рациональности; первая порождает парадигмы когнитивной закрытости и всеобъемлющей организации, тогда как вторая допускает существование особых форм рациональности различных социокультурных сфер и продолжающуюся конфронтацию между ними. Кажется очевидным, что это обсуждение включает автономию наряду с рациональностью: стремление артикулировать определенные рамки, холистские или плюралистические, предполагает утверждение способности к самоориентации. Более непосредственным образом автономия становится полем столкновения между индивидуалистическими и коллективистскими интерпретациями, и их воздействие на соперничающие версии модерности было очень значительным.
Следует по крайней мере упомянуть еще один плюрализирующий фактор. Множественность социокультурных сфер (миропорядков, как называл их Макс Вебер), которая не является характерной исключительно для модерности, но значительно более выражена в эту эпоху, чем когда-либо ранее, выступает не просто чертой, усиленной определенными интерпретациями. На более фундаментальном уровне она является источником различных значений, которые могут транслироваться в соответствующие образы модерности. Экономическая, политическая и интеллектуальная/научная сферы социальной жизни – если упомянуть лишь наиболее важные – также могут рассматриваться как рамки опыта, интерпретации и воображения; в таком качестве они создают основу различных способов понимания человеческого бытия в мире и его современных трансформаций. Это было очевидно уже в различных версиях классической теории модернизации и стало более явным с переходом к теориям модерности. На уровне исторических формаций эта порождающая разнообразие динамика взаимодействует с другими источниками множественности модерностей, включая наследие домодерных цивилизаций. Но дальнейшее исследование данной сферы выходит за пределы этого краткого очерка.
Перевод с английского Михаила МасловскогоЦивилизационные паттерны и процессы цивилизации 8 8 Перевод статьи: Arnason J. Civilizational Patterns and Civilizing Processes // International Sociology. 2001. Vol. 16. № 3. P. 387–405. Первая русская публикация: Неприкосновенный запас. 2014. № 6. Перевод переработан для данного издания.
Основания и перспективы: формирование цивилизационной теории
Жан Старобинский описывает понятие «цивилизации» как значительный стимул для теоретизирования 9 9 Starobinski J. Le mot «civilisation» // Le temps de la réflexion. 1983. Vol. IV. P. 13–51.
. Но его собственный анализ происхождения этого понятия в XVIII веке и его последующей разработки показывает, что путь от понятия к теории был отнюдь не прямым. Термин «цивилизация» с самого начала являлся двусмысленным. Хотя его основное использование в мысли XVIII столетия было связано с утверждением универсального процесса расширения прав и облагораживания нравов, плюралистическое и потенциально релятивистское значение термина, относящееся к многообразию культурных миров, также, по-видимому, было предложено попутно теми, кто выдвинул универсалистскую версию, хотя это второе значение получило признание лишь с течением времени. Поскольку понятие «цивилизация» стало ключевым термином, оно тем самым подвергалось конфликтующим интерпретациям, которые в большей степени были связаны с идеологическим соперничеством, чем со способами теоретизирования. В силу неравномерного развития этих двух значений цивилизация в единственном числе представляет собой значительно более оспариваемую идею, чем цивилизации во множественном числе. На одном конце спектра эта идея связана с критикой (как самой цивилизации, так и идущей от ее имени), но на другом конце она выступает одним из «замещающих абсолютов» 10 10 Ibid.
, приходящих на смену исчезающему представлению о священном.
Но самая поразительная иллюстрация сложного взаимоотношения между понятиями и теориями цивилизации не была включена в обзор Старобинского. Социологическая традиция, сложившаяся вслед за Просвещением, подхватила вопросы, тесно связанные с размышлениями о цивилизации в XVIII столетии, но столкнулась с трудностями интегрирования идеи цивилизации – в единственном или множественном числе – на уровне основных понятий. Решающие шаги в этом направлении были сделаны лишь на сравнительно поздней стадии развития данной традиции. Этот паттерн является более заметным на более развитом смысловом уровне. В универсуме дискурса XVIII века цивилизация в единственном числе часто выступает синонимом понятия прогресса. Социологическая мысль XIX века сохраняет связь с идеей прогресса (хотя и не некритичную приверженность данной идее), но цивилизационная тематика транслируется в теории социальной эволюции, а явные отсылки к понятию цивилизации остаются маргинальными по отношению к основной линии аргументации. Если обратиться лишь к самым очевидным примерам, Маркс отмечает цивилизационные импликации процессов, которые он рассматривает в других терминах (будь то рост производительных сил в целом или капиталистическое развитие в частности), тогда как Дюркгейм с одобрением цитирует контовское определение социологии как науки о цивилизации, но без какого-либо дальнейшего обсуждения последствий этого для самовосприятия дисциплины 11 11 Подробнее см.: Arnason J. Civilizations in Dispute. Leiden: Brill, 2003.
.
Интервал:
Закладка: