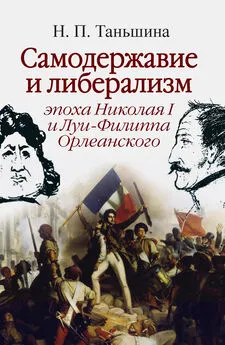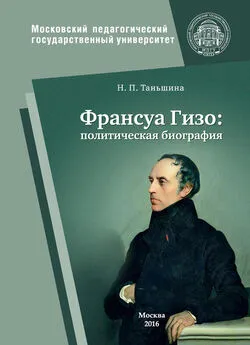Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Название:Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2243-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] краткое содержание
Отношения между странами – это отношения между народами. С одной стороны, неприятие российским императором Июльской монархии, а также линия на свертывание двусторонних контактов только подогревали интерес русского человека к Франции. С другой стороны, к России и русским французы, особенно после Июльской революции и подавления Николаем I Польского восстания, испытывали, как правило, крайнюю настороженность, временами переходившую в откровенную русофобию. Почему нас не любили? Связано ли это было с глубинными цивилизационными отличиями или же антирусские настроения подогревались активной внешней политикой Российской империи? Любовь же русского человека к Франции была неизбывной. Даже несмотря на то, что порой она была безответной…
Книга предназначена для историков и всех, кто интересуется историей Франции и России.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Строев на страницах своей книги приводит весьма курьезный факт о всегда сдержанном и строгом Гизо: на трибуне выступал Тьер, постоянный политический оппонент Гизо, в адрес которого и произнес что-то оскорбительное. Гизо бросился к кафедре, с другой стороны – Луи Моле; Тьер «ухватился обеими руками за кафедру; Гизо и Моле тащили его каждый обеими руками, каждый со своей стороны. Шум в палате сделался неимоверный. Скоро Гизо опомнился, и все пришло в прежний порядок; но лицо доктринера было ужасно: он побледнел, как полотно, губы его стиснулись, глаза кружились, как у гиены» [827].
Что касается парламентского образа правления в целом, наши соотечественники его не понимали и не одобряли. Все они оказались в Париже в разгар очередного министерского кризиса. Строев писал: «Все жалуются на министров; все бедствия Франции относятся к нерадению или неспособности министров; а что могут сделать умнейшие министры, когда встречают в палатах ежеминутную оппозицию..? Министерство всегда имеет средства подкупить депутатов местами, деньгами, наградами» [828].
О министерской чехарде писал и Погодин: «Министры беспрестанно изменяются, и ни один дельный человек не может, следовательно, приносить надлежащей пользы» [829].
Весьма негативное впечатление партийная борьба, точнее, борьба «шаек», производила на князя Вяземского. Его просто «от всей этой каши тошнит» [830]. По убеждению князя, политическая борьба только ослабляла режим Луи-Филиппа: «Монархия июльская… не довольно еще оселась и раздобрела, чтобы можно было поминутно в глазах ее внутренних противников легитимистов, республиканцев и наполеонистов и в глазах недоброжелательной к ней Европы ажитировать вопросы, которые более или менее касаются до самого ее существования» [831].
Столь же негативно Вяземский отзывался и о французских политиках как таковых: «Присвоили себе неограниченную свободу все говорить, все писать, не уважать ни единством времени, ни единством истины и святости некоторых начал, которые везде и всегда должны пребыть нерушимы, присвоили себе выражение, но не присвоили смысла…» [832]Французы, по словам Вяземского, все «…пересолили и перебагрили кровью, расшибая лоб себе и другим излишним усердием… Все понятия сбиты с места… Здесь, например, скульптор Давид влюблен не в Галатею, а в депутатство, спит и видит, как попасть в палату и попадает» [833].
Смотреть на видных политиков, знаменитых людей ходили не только в Палату, но и в Академию наук, в Сорбонну, наносили личные визиты. Причем круг этих лиц – все тот же; не случайно Июльскую монархию называют правлением профессоров. Профессор Московского университета М.П. Погодин очень хотел познакомиться со своим коллегой-историком Гизо: для этого он бывал в Палате, регулярно посещал Сорбонну и нанес личный визит, отправившись к нему домой на улицу Виль Эвек. «Гизо принял меня очень ласково и начал тотчас расспрашивать об университете, курсах, профессорах, студентах, библиотеках, состоянии ученых в России. Я видел в его вопросах уже не историка, не литератора, а министра» [834]. Погодин рассказал Гизо и о своем впечатлении от «Истории цивилизации в Европе», заявив, что «работе недостает половины, а именно Восточной Европы, славянских государств» [835]. Кстати, именно по этой причине современный швейцарский журналист и политолог Ги Меттан заносит Гизо в разряд русофобов [836].
Погодина как преподавателя и историка интересовала особенно эта сторона жизни: «Все здешние профессоры читают обыкновенно по два раза в неделю и больше ничего не делают. Можно приготовиться» [837]. Впрочем, по мнению Михаила Петровича, дар слова, «физиологическая способность говорить, без всякого сомнения, дан преимущественно французам, у которых никто оспаривать его не смеет. Французы все говорят хорошо – и между слугами, сидельцами, почтальонами я встречал часто таких говорунов, что любо слушать. Говорящие дурно – это исключение у них…» [838]Впрочем, по мнению Погодина, дар красноречия не компенсировал отсутствие образования у простого люда и делал комплимент русскому народу: «Простой народ во Франции глуп и необразован, как будто другое племя. Тоже заметно и везде. Какое сравнение с русским народом, у которого, как говорит пословица, кафтан сер, а ум не черт съел» [839].
Если Гизо вне Палаты можно было застать в салоне княгини Ливен, то Тьер имел собственный салон в роскошном особняке. Тьер для русских – персона удивительная. Если для западного человека Тьер – пример self made man, то для русских это вариант «из грязи в князи». И наши соотечественники подчеркивали, что это характерная тенденция во Франции эпохи Июльской монархии. А оказывавшихся в России французов как раз поражало отсутствие социальных лифтов. В.М. Строев писал о Тьере: «Осужденный рождением и бедностию на безвестность, но выброшенный из грязи на верхние ступени общества Июльскою революциею. Странна участь этого необыкновенного человека! Никто не знает, кто был его отец; знают только, что он родился в Марселе, от бедных родителей. Говорят, он чистил сапоги у проходящих, на марсельском бульваре; но это, кажется, сказка» [840].
Бывал в салоне Тьера и князь Вяземский – как известно, Тьер не преуспел в светской жизни, а его жена и ее мать так и не стали настоящими великосветскими хозяйками салона. «Тут ни слова о Франции, о государственных началах, о нравственной политике, а сплетни о министрах и своих противниках. Видишь, что дело идет не о убеждениях совести и ума, а только о лицах. Теща Тьера, рыбачка настоящая… кричит и ругает противников зятя своего». Но Вяземский был в восторге от превосходного особняка Тьера: «Но дом их прекрасен, что-то италианское в наружности, с садом, двором, устланном по сторонам зеленым дерном» [841].
Не только политики интересовали наших соотечественников, но и писатели, тем более что годы Июльской монархии – это настоящий бум в развитии французской литературы. Особенно французские литераторы интересовали Владимира Строева – не только писателя, но и самого известного тогда в России переводчика с французского и немецкого: именно он переводил популярных в России Александра Дюма и Эжена Сю. Вот что он писал о развитии литературы во Франции: «Теперь Франция наводнена писателями. Кого ни увидишь в кафе, в театре, в Палате, в гостиной, – всяк написал что-нибудь, или повесть, или брошюру, и называет себя homme de lettres (литератором)». При этом, по его словам, «Франция не богата прозаиками; есть человек двадцать замечательных, остальные умрут вместе с поколением, для которого пишут, приноравливаясь к его привычкам, льстя его страстям и порокам» [842]. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Санд – Строев создал целую галерею превосходных образов французских писателей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]](/books/1150356/nataliya-tanshina-samoderzhavie-i-liberalizm-epoha-nikolaya-i-i-lui-filippa-orleanskogo-litres.webp)

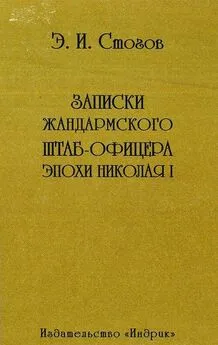
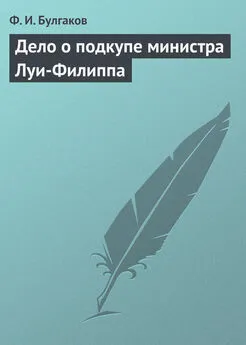

![Луиза Кэндлиш - Наш дом [litres]](/books/1066307/luiza-kendlish-nash-dom-litres.webp)
![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо: политическая биография [litres]](/books/1066752/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra.webp)
![Луиза Дженсен - Свидание [litres]](/books/1071030/luiza-dzhensen-svidanie-litres.webp)
![Луиза Дженсен - Подарок [litres]](/books/1085600/luiza-dzhensen-podarok-litres.webp)