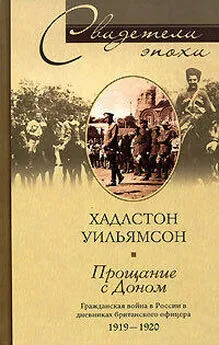Александр Станиславский - Гражданская война в России XVII в.
- Название:Гражданская война в России XVII в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-244-00407-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Станиславский - Гражданская война в России XVII в. краткое содержание
Для специалистов-историков и широкого круга читателей.
Гражданская война в России XVII в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но были у служилых казаков и привилегии. Как установил К. Д. Фодорин, служилые люди «по прибору» имели в 1626 г. значительные льготы по части пошлин за приложение к различным документам государственной печати. Московские стрельцы вообще их не платили, а городовые стрельцы и казаки были освобождены от печатных пошлин по земельным вопросам, «потому что люди служилые, а земли за ними государевы». Позднее соответствующие статьи вошли и в Уложение 1649 г. Таким образом, приборные люди не считались владельцами земли и их землевладение было еще более условным, чем дворян-помещиков. Дворы в городах и поместья казаков были освобождены («обелены») от посадского и крестьянского тягла — отсюда термины «беломестные» и «белопоместные» казаки. Небольшая часть казаков вообще не имела земель и служила только с денежного и хлебного жалованья. 50 беспоместных «черкас», «которые земель не взяли», насчитывалось в 1594 г. в Путивле. Не имели земель в XVI в. и данковские беломестные атаманы, хотя их денежный оклад (7 руб.) был выше, чем у казаков других категорий [15] Анпилогов. Новые документы. С. 206; Миклашевский Н. Н. К истории хозяйственного быта Московского государства. Ч. 1. М., 1894. С. 271; ЦГАДА, ф. 210, В. ст., стб. 7, л. 160.
.
Наконец, некоторые казаки, в том числе, вероятно, отличившиеся на царский службе, подобно дворянам, верстались индивидуальными поместными и денежными окладами (таких казаков называли верстанными), а иногда получали поместья, намного превосходившие обычные земельные наделы. Так, украинскому атаману К. Мелентьеву было пожаловано в конце XVI в. более 200 четвертей в Старорязанском стане Рязанского у. Более десяти верстанных донских и украинских атаманов владели тогда же поместьями в Моржевском стане, причем им принадлежали холопы и крестьяне. По-видимому, самая крупная корпорация верстанных атаманов образовалась в XVI в. в Рижским у. В 1600 г. она состояла из 58 человек, их поместные оклады колебались от 100 до 250 четвертей, денежные — от 4 до 9 руб. Но реальные поместья ряжских атаманов были намного меньше окладов: за М. Ф. Митрофановым, например, значилось по десятне всего 65 четвертей земли, хотя его поместный оклад составлял 120 четвертей. В целом же положение верстанных атаманов на Рязанщине мало отличалось от положения местных детей боярских.
Индивидуальными окладами казаки верстались и в других районах Русского государства: выехавшему в 1589 г. на царскую службу и поселенному в Путивле украинскому атаману Ф. Гороховому было назначено жалованье 15 руб. [16] Писцовые книги Рязанского края XVI и XVII вв. Вып. 1. Рязань, 1898. С. 206–207, 243; Анпилогов Г. Н . Рязанская писцовая приправочная книга конца XVI в. М., 1982. С. 217, 220, 221 и др.; Васенко П . Атаманы служилые-поместные//Дела и дни. Кн. 1. Пб., 1920. С. 37–38; ЦГАДА, ф. 210, Дела десятен, кн. 99; ф. 141, 1589 г., д. 28, л. 1–2.
Верстанные казаки фактически с самого начала служили на положении мелких и средних детей боярских, в то же время известная часть неверстанных казаков также со временем проникала в состав дворянства. Так, епифанская дворянская корпорация была создана в 1585 г. путем производства в дети боярские 300 казаков с окладами 30 и 40 четвертей земли [17] Сторожев В. Н . Материалы для истории русского дворянства. Т. I . М., 1891. С. 92–94. Нет оснований считать сохранившуюся епифанскую десятню 1585 г. (ЦГАДА, ф. 210, Дела десятен, кн. 221) позднейшей копией, а указание в заголовке на происхождение детей боярских из казаков сочинением переписчика ( Скрынников . С. 141–142).
. Трудно сказать, насколько широко была распространена подобная практика, однако случаи с епифанскими казаками едва ли был единичным.
Отток вольных казаков на государеву службу не привел к уменьшению численности казачества в южных степях, так как оно постоянно пополнялось за счет беглых холопов и крестьян, обнищавших дворян и приборных люден.
В годы «Смуты» и после нее современники вспоминали о жестоких преследованиях, которым подвергал казаков Борис Годунов: им запрещалось не только торговать, но и вообще появляться в русских городах. Казаков, нарушивших этот запрет («заповедь»), воеводы арестовывали и бросали в тюрьмы. В первые годы XVII в. население пограничных областей преследовалось за отправку на Дон «заповедных» товаров — вина и необходимого казакам военного снаряжения [18] РИБ. Т. 18. С. 248–249; ПСРЛ. Т. 14. С. 61; Разрядная книга 1550–1636 гг. Ч. II . Вып. 1. М., 1976. С. 216–217.
. Р. Г. Скрынников отметил, однако, что отношение правительства Годунова к казачеству не было столь однозначным, как это принято считать, и что большинство источников (например, грамота на Дон 1625 г.), сохранивших сведения о преследованиях казаков в начале XVII в., относится ко времени Романовых, «старательно чернивших политику Годунова». Что касается запрещения торговать с казаками, то здесь, по мнению историка, можно усмотреть лишь стремление правительства «всецело подчинить донскую торговлю своему контролю». Решающий аргумент в пользу «реабилитации» Годунова он видит в распоряжении правительства, посланном весной 1604 г. воеводам Шацка и Ряжска: «…в городе и в слободах сыскивати донских и вольных атаманов и казаков и вновь казаков прибирать и давать государево жалованье» [19] Скрынников . С. 134–135.
.
Соображения, высказанные Р. Г. Скрынниковым, заслуживают внимания, однако следует напомнить, что известие о запрещении казакам свободно въезжать в пределы России при Борисе Годунове и выезжать из нее имеется уже в договоре Новгорода со шведами 1611 г. и, следовательно, рассматривать его как романовскую легенду нет никаких оснований. Да и сама возможность фальсификации правительством Михаила Романова политики Годунова в грамоте, обращенной в 1625 г. к донскому казачеству, представляется маловероятной: казаки тогда еще прекрасно помнили времена царя Бориса. Наконец, едва ли можно поставить под сомнение тот непреложный факт, что русские казаки не любили Бориса Федоровича, поскольку свое отношение к нему они вскоре достаточно ясно продемонстрировали оружием. На наш взгляд, конфликт между «вольным» казачеством и правительством Годунова все же имел место, и следует поэтому попытаться объяснить его причины.
В 1600 г. у татарского «перелаза» (переправы), недалеко от места впадения Оскола в Северный Донец, началось строительство самой южной русской крепости — Царева Борисова. Конечно, основной его целью было дальнейшее укрепление южной оборонительной системы, прикрывавшей Россию от набегов татар, и не случайно крымцы пытались ему помешать. Известно, в частности, что служилый казак И. Баранов был взят в плен крымскими татарами «при царе Борисе, как Царев Борисов город ставили». Однако Царев Борисов непосредственно угрожал и «вольному» донскому казачеству. Воеводы Бельский и Алферьев должны были затребовать у казаков, давно уже солившихся в этих краях, сведения, «в которых местех на Донце и на Осколе юрты, и кто в котором юрте атаман, и сколько с которым атаманом казаков, и которыми мосты и которого юрту атаманы и казаки какими угодьи владеют». Реакцию казаков нетрудно предугадать: на правительственный контроль своего состава они никогда добровольно не соглашались и потому, что боялись выдачи беглых прежним владельцам, и потому, что попавшие в Москву списки казаков по станицам могли стать препятствием для дальнейшего их пополнения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: