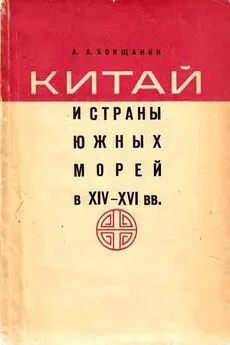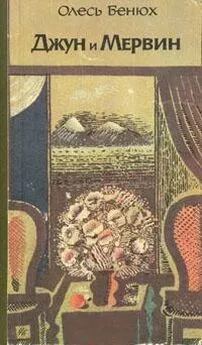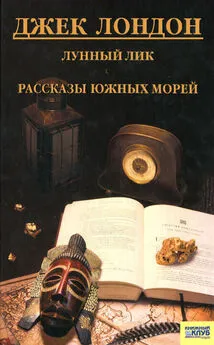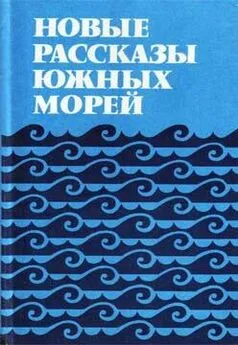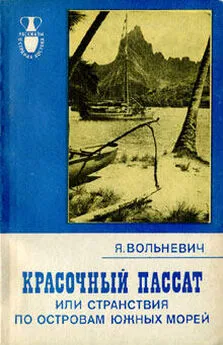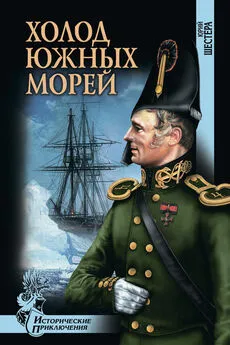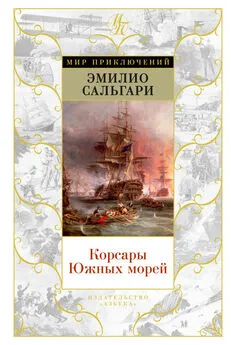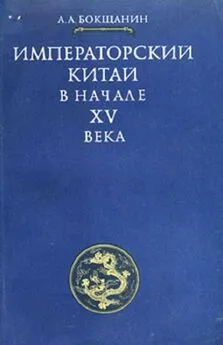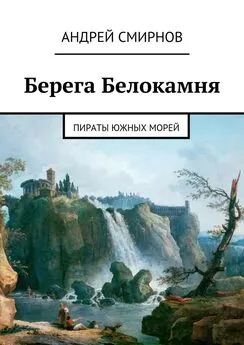Алексей Бокщанин - Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв.
- Название:Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Бокщанин - Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв. краткое содержание
Специальный раздел книги посвящен внешнеторговой политике Китая этого времени.
Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следует подчеркнуть, что во многих манифестах о верховной власти китайского императора говорится не как о праве, которое можно осуществить при тех или иных условиях, а как о предопределенном состоянии, аксиоме, воплощенной в жизнь. Например: «Я (император. — А. Б .) [68] «Гуандун тун чжи», цз. 101, стр. 546.
почтительно получив на то соизволение Неба, правлю как государь китайцами и иноземцами» и. Это объясняется тем, что данная идеология не была нововведением для минского времени. Она уходит корнями в глубокую древность. Одним из исходных моментов ее формирования было представление древних китайцев о своей стране как о центре вселенной. Подобные взгляды, отразившиеся в древнекитайской космогонической схеме, характерны не только для китайцев, но и для многих других народов на ранних этапах их общественного развития. Однако в Китае эти воззрения сохранились в течение длительного времени и даже усилились благодаря тому, что обладавший сравнительно высоким уровнем земледельческой цивилизации древний Китай на протяжении многих веков не соседствовал с другими крупными и развитыми странами. В силу неравномерности общественного развития процесс формирования классового общества и становления государственности здесь шел быстрее, чем у большинства сопредельных стран и народов. Поэтому в VII–IV вв. до н. э. в философско-этических концепциях китайских мыслителей можно найти сложившееся представление о Китае как о высшем государстве и об иноземных народах как о «варварах» [69] Характерно, что собирательное понятие «иноземец», «чужестранец» выражается в китайском языке иероглифом «фань» [№ 1768. Здесь и далее номера иероглифов даются по «Китайско-русскому словарю» под ред. И. М. Ошанина (изд. I, М., 1952)], который имеет пренебрежительный оттенок — «варвар», «дикарь». См. также Иннокентий, Полный китайско-русский словарь, т. II, Пекин, 1909, стр. 110. Как отмечают Дж. Фэйербэнк и С. И. Тэн, точное значение иероглифа «фань» установить нелегко, ибо он означает нечто среднее между понятиями «иностранец» и «варвар» ( J. К. Fairbank, S. Y. Teng , On the Ching Tributary System, p. 137). Характерно также, что упомянутый иероглиф входит в качестве фонетика в другой иероглиф «фань» (№ 1782), имеющий значение «вассальный», «дальние владения». Тем самым с древности понятие «иноземный» связывалось с понятием «подчиненный» по отношению к Китаю. Современный китайский историк Сян Да характеризует это явление как «великодержавную идеологию» ( Гун Чжэнь , Си ян фань го чжи, Предисловие, стр. 9).
.
В условиях сравнительно раннего развития государственности в Китае постепенно складывалось представление о власти китайских правителей как о наивысшей и вездесущей; это нашло отражение в древнекитайских философско-этических концепциях. Однако решающую роль в этом отношении сыграло образование единого централизованного государства и оформление деспотической власти китайских императоров в конце III — начале II в. до н. э. В этот период идея неограниченной и повсеместной власти императора, служившая объединению страны, получила характер непререкаемой, официально принятой догмы.
В дальнейшем представления китайцев о своей стране как о высшем государстве и о повсеместной верховной власти императора слились воедино, соответствующим образом влияя на всю систему взаимоотношений Китая с зарубежными странами и народами. При этом необходимо подчеркнуть, что эти воззрения китайских политиков прошлого не были неизменными, раз и навсегда приобретенными в классической китайской древности. В процессе становления и развития отношений с другими странами они находили свое конкретное проявление в китайской внешнеполитической практике. Иначе говоря, в течение многих веков они уточнялись и конкретизировались, постепенно превращаясь в стройную систему идеологических принципов, на которых строились внешние связи [70] Важно подчеркнуть, что оформление указанных идеологических принципов китайской политики — категория историческая. Китайская историографическая традиция склонна всякое явление определенного исторического периода выводить в неизменном виде с глубокой древности. Так, например, в некоторых источниках записано, что начало посольским связям Китая с иноземцами было положено еще при основателе династии Инь (XVI в. до н. э.) и что к иньскому двору приходили послы из 76 иноземных стран ( J. К. Fairbank, S. Y. Teng , On the Ching Tributary System, p. 142). Как известно, в эго время в Китае только еще шел процесс становления классового общества, а соседние племена находились на более низкой стадии развития, поэтому о-каких-либо межгосударственных отношениях говорить не приходится.
.
В!Конце XIV–XVI вв. н. э. произошли дальнейшие сдвиги как в оформлении указанной идеологической системы, так и в области ее практического применения. Представления об исключительном месте Китая среди всех прочих стран и народов были восприняты минским правительством. Это нашло отражение в самых ранних документах той эпохи, касающихся внешних связей. Весьма характерна в этом отношении следующая запись из. «Мин ши лу», датируемая концом XIV в.: «При утверждении [династии Мин] в Китае страны всех четырех стран света были поставлены на подобающее им место без каких-либо намерений, подчинить их [со стороны Китая]» [71] Цит. по: Чжэн Хао-шэн , Шиу шицзи чуе Чжунго юй Я-Фэй гоцзя-цзянь-ды юи гуаньси, стр. 24.
. Обращает на себя внимание та предопределенность, с которой здесь говорится о привилегированном положении Китая среди прочих стран. Таким образом китайская дипломатия минского времени пыталась обосновать систему взаимоотношений империи с внешним миром. Например, в одном из указов Чжу Юань-чжана для иноземных стран сказано: «С тех пор как существует Небо и Земля, существует и деление на государей и подданных, на высших и низших. Поэтому и установился определенный порядок в отношениях Китая с иноземцами всех четырех стран света. Так была издревле» [72] Янь Цун-дянь , Шу юй чжоу цзы лу, стр. 446.
. Как видим, китайская дипломатия рисовала себе эти отношения отнюдь не на взаимно равных условиях. В некоторых китайских трудах даже содержится специальное предостережение против равноправия при установлении связей с иноземцами: «Обращение с ними (иноземцами. — А. Б .) как с равными равносильно легкомысленному перенятию чуждых обычаев» [73] Лун Вэнь-бинь , Мин хуй яо, т. I, стр. 255.
. Ссылка на возможность перенятия чуждых обычаев в данном случае выглядит весьма убого и, естественно, не может объяснить истинной причины того неравенства, которое китайская дипломатия была намерена соблюдать в отношениях с иноземцами.
Взяв на вооружение идею предопределенного превосходства Китая над иноземными народами, минское правительство рассчитывало таким образом добиться возможно большего поднятия авторитета своей власти в стране и укрепления своего положения на международной арене. Наибольшего успеха оно, естественно, могло ожидать не в отношениях с северо-западными соседями, а в Корее, Дайвьете, Верхней Бирме и странах Южных морей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: