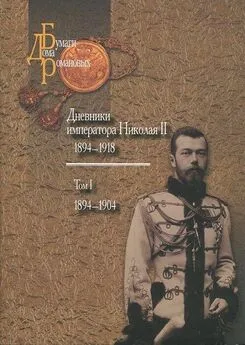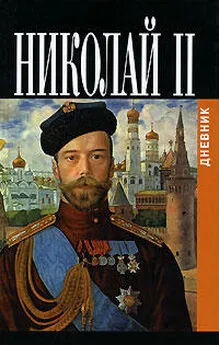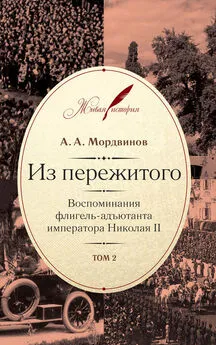Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения
- Название:Судьба императора Николая II после отречения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:FB2Fixe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9533-0808-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Мельгунов - Судьба императора Николая II после отречения краткое содержание
С.П. Мельгунов – самый крупный историк русского зарубежья, а может быть, и всей отечественной науки XX века по этим вопросам. До революции он являлся признанным авторитетом по истории русской церкви, прежде всего старообрядчества, сектантства. Под его редакцией вышли многотомные коллективные труды, составляющие гордость русской историографии: "Великая реформа 19 февраля 1861 г." (7 т.), "Отечественная война и русское общество" (6 т.), "Масонство в его прошлом и настоящем" (З т.). В 1913 году совместно с В.И.Семевским Мельгунов организовал крупнейший русский исторический журнал "Голос минувшего" и редактировал его на протяжении 10 лет (вышло 65 томов).
В трилогию "Революция и царь" входят книги "Легенда о сепаратном мире. Канун революции", "Мартовские дни 1917 года", "Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки". Они составляют яркую, насыщенную живым дыханием времени хронику мятежных лет, переломивших судьбу России. Эту хронику отличают богатейшее использование исторических источников, объективная оценка происходившего, публицистическое биение авторской мысли, документальные фотографии.
Судьба императора Николая II после отречения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Насколько распространена была подобная концепция среди большевиков, показывает тот факт, что она встречается в изложениях многих мемуаристов. Напр., французский посол Нуланс, имевший сношения с Троцким в момент брестских переговоров, свидетельствует, что Троцкий не скрывал, что он предпочитает монархическую реставрацию республиканскому правительству, буржуазному или социалистическому. Домерг, со своей стороны, ссылается на разговоры с последователями Ленина о предпочтительности для большевиков, в случае неудачи, монархического режима перед демократией. Эта реакция «вода на мою мельницу» – откровенно говорил Ленин своему старинному приятелю Соломону. На другом полюсе России известный нам корнет Марков значительно позже, при своем отъезде из Тюмени, встретился в поезде с «ученым коммунистом» журналистом Тарасовым-Родионовым, который развивал перед ним теорию о том, что большевики сдадут свои позиции только монархистам. Для примитивного и однобокого ума Ленина вообще «середины нет»: либо диктатура помещика и капиталиста, либо диктатура рабочего класса. О середине мечтают попусту «барчата-интеллигенты», плохо учившиеся по плохим книжкам. Это изумительное открытие сделано в письме Ленина к крестьянам и рабочим в 19 г. и о нем можно прочитать в XVI т. «гениальных» ленинских произведений.
Конкретизацию мысли о реставрации монархии под протекторатом Германии современная молва приписывала совместному творчеству двух дам в Смольном – Коллонтай и Вырубовой. Эта комбинация восстановления монархии с некоторыми вариантами, – напр., регентство (Леопольда Баварского), систематически выплывает в месяцы, предшествовавшие Брестскому миру [325], и в последующие, весенние. «Со всех сторон запахло претендентами», как однажды выразился «День», передавший сообщение вюртембергских газет, что в некоторых кругах Берлина обсуждается проект замещения новой династией русского престола (Романовы-Гольштейн-Готорпские и Гессенские считаются скомпрометированными).
Кандидатом у этих безответственных политиков, может быть, занявшихся своими полезными изысканиями под влиянием русской информации, являлся вел. герцог Мекленбург-Шверинский, как принц славянского происхождения (он был сыном вел.-кн. Анастасии Мих.). Можно отметить у некоторых политических прожектеров еще кандидатуру Константина Греческого, как православного, внука Александра I, и к тому же мужа сестры германского императора. «Нелепые» слухи отмечает и дневник ген. Будберга. Показательно, что во всех подобных комбинациях имя Николая II нигде не фигурирует; постепенно на задний план отходит и кандидатура законного наследника. Говорят даже о новой династии. Сознание это упрочивается настолько в кругах даже конституционных монархистов в России, что подобную комбинацию готовы принять и легитимисты. Ген. Казанович, посланный в Москву с Юга командованием Добровольческой армии (это было в конце мая), установил связь с влиятельными общественными кругами», которые образовали к тому времени так называемый «правый центр», имевший в виду восстановление монархии. «Правый центр» делал ставку на Германию. Вот как передает свои впечатления Казанович: о «личности своего кандидата деятеля правого центра умалчивали, а по некоторым намекам можно было предположить, что они не прочь видеть на русском престоле кого-либо из германских принцев».
Вот почва, на которой возникла легенда, докатившаяся и до Тобольска и там получившая свое особое преломление. В сущности легенда не касалась низложенного монарха, а говорила лишь о тайном пункте мирного договора, по которому в России восстанавливается автократический режим. В таком контексте легенда прочно держалась в военной среде, – так передает, напр., ее в воспоминаниях ген. Гоппер, командир одной из частей латвийских стрелков, который принимал близкое и непосредственное участие в антибольшевистских военных организациях Москвы. В дни, предшествовавшие подписанию мира, когда немцами было нарушено установленное в предварительных переговорах перемирие и началось наступление, легенда получила некоторое фактическое обоснование. Могло казаться, что оккупанты действительно склонны изменить свою политическую тактику и отойти от большевиков. Недаром главнокомандующий немецкой армией на востоке, принц Леопольд Баварский, начал свое февральское наступление с заявления по радио об опасности большевистской заразы и о долге Германии бороться с тем моральным разложением, которое несут с собой московские властители. Упорные слухи носились, что Германия заключит мир лишь с правительством, признанным всей страной, – отсюда «уродливая радость», отмечаемая современниками: «то-то зададут немцы большевикам, немцы принесут с собой порядок, и с большевизмом будет покончено» [326].
Передавали сведения из Совета Нар. Ком. о вероятной оккупации Москвы и Петербурга. Находились разочарованные русские, уставшие от большевистских экспериментов, которые были готовы примириться с иноземной оккупацией, но попытки изображать эти чувства всеобщими, хотя бы в «буржуазных» кругах, надо, конечно, отнести к области общественной карикатуры. Возможно, что эти слухи распространяли сами немцы, с одной стороны, чтобы воздействовать на колебавшихся большевиков, а с другой, чтобы не потерять на всякий случай «контакта» с людьми, склонявшимися к «германской ориентации» в международных и внутренних политических отношениях.
Для того чтобы конкретизировать психологическую и политическую обстановку тех дней, необходимо было бы вступить на скользкую тропу, ведущую в область легенд и фактов, которые исторически исследуемы быть еще не могут за отсутствием хоть сколько-нибудь проверенного материала. Представляется несомненным, что какие-то закулисные разговоры после отъезда официальной немецкой дипломатической миссии (Кайзерлинг и Мирбах) велись в обеих столицах между двумя возможными в будущем партнерами – разговоры случайные и безответственные о совместном выступлении против большевиков. Эти разговоры русских «монархистов» и представителей «секретной» немецкой миссии (быть может, правильнее сказать – военной контрразведки) в Москве зарегистрированы в дневнике моего современника достаточно отчетливо. Отмечен там и слух о поездке петербургских «монархистов» в Псков, т.е. в штаб северогерманского фронта. Такая инициатива действительно была проявлена связанной с военными кругами Петербурга антибольшевистской организацией, одним из главарей которой был известный нам по истории проекта великокняжеского манифеста и марта 17 г. прис. пов. Иванов, человек близкий к вел. князю Павлу Ал. О появлении парламентеров упомянул и сам начальник фронта ген. Гофман, отнесший, правда, все это к более поздней дате. Упоминает о нем и немецкий участник переговоров в Ревеле с представителями петербургской монархической группировки, ведавший контрразведкой германской главной квартиры, – майор Бауэрмейстер. Он говорит, что уполномоченный петербургской организации, некто полк. ген. штаба Д. (ген. Гофман раскрывает фамилию – Дурново) прибыл с собственноручным письмом в. кн. Павла, который, в случае свержения большевистской власти при помощи Германии, должен был сделаться «блюстителем престола».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: