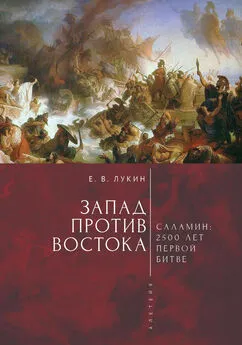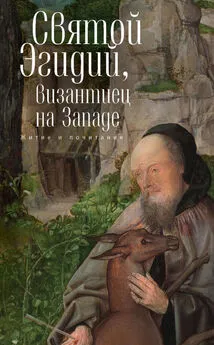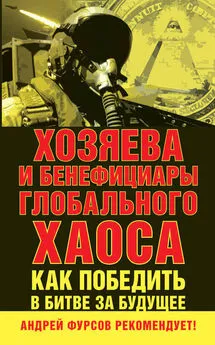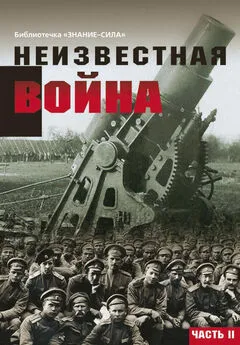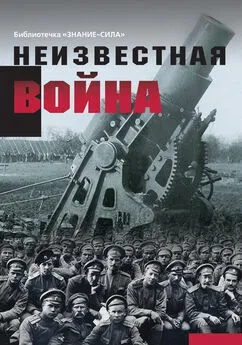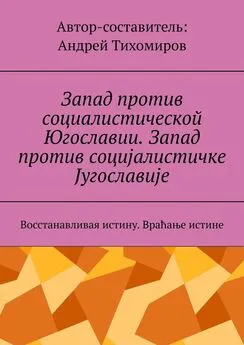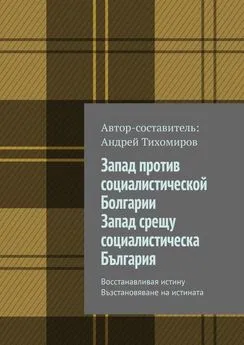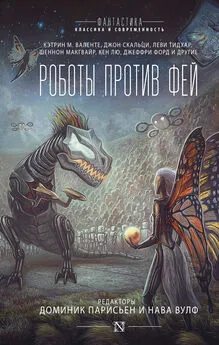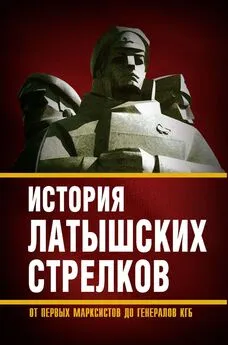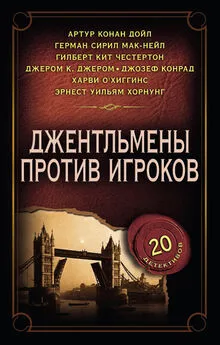Array Сборник - Запад против Востока. 2500 лет первой битве
- Название:Запад против Востока. 2500 лет первой битве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-095-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник - Запад против Востока. 2500 лет первой битве краткое содержание
В книгу вошли фрагменты трудов античных авторов, посвященные этому событию: «История» Геродота (книга восьмая), трагедия Эсхила «Персы», поэма «Персы» Тимофея Милетского, биографический очерк из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Книгу дополнили драматические произведения XVIII–XIX веков на эту тему, которые ранее никогда не публиковались: перевод на русский язык трагедии «Фемистокл» итальянского драматурга Пьетро Метастазио и либретто оперы «Фемистокл» поэта Гавриила Державина. Сборник завершили поэтические творения новогреческих авторов: «Героические песни» национального героя Греции Ригаса Фереоса и стихи из поэмы «Гимн свободе» Дионисиоса Соломоса, ставшие национальным гимном современной Греции.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Запад против Востока. 2500 лет первой битве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Политическое мышление Геродота было универсальным. Это не значит, что у него не имелось предпочтений. Свобода и закон – вот два столпа, на которых зиждилось его мировоззрение. Свобода в представлении «отца истории» являлась внешней жизненной сферой, в которой существуют независимые греческие полисы, а закон являлся тем порядком, что определяет внутреннюю деятельность этих полисов. Спартанец Демарат заявлял царю Ксерксу, что греки «свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка – это закон, которого они страшатся гораздо больше, чем твой народ тебя». Именно за эту внешнюю свободу (суверенитет) сражались союзные отряды Эллады во время греко-персидских войн. Политическое устройство греческих полисов, будь оно демократическое или тираническое, в данном случае не имело значения.
Таким образом, причина Саламинской победы таилась вовсе не в превосходстве демократии над тиранией, а в едином патриотическом порыве эллинов, которых сумел сплотить блестящий афинский полководец Фемистокл «Так, острый ум одного человека освободил Грецию, и Европа одолела Азию, – писал о нем древнеримский историк Корнелий Непот. – Была одержана еще одна победа, достойная марафонского трофея: ведь при Саламине произошло то же самое – малочисленные корабли разгромили самый большой на памяти человеческой флот». Великолепное владение тактическим и стратегическим мастерством, а также искусством дезинформации отличали Фемистокла от других военачальников, которые не обладали исключительной способностью быстро принимать решения в непредвиденных обстоятельствах. По мнению древнегреческого историка Фукидида, «это был человек, которому его гений и быстрота соображения сразу же подсказывали наилучший образ действий».
По сути, Фемистокл является символом той самой «свободной индивидуальности», которая, по мысли Гегеля, продемонстрировала превосходство духовной силы над темной массой, торжество демократии над тиранией. Между тем, показательна дальнейшая судьба афинского полководца. Несмотря на особые заслуги перед Афинами и Элладой, афиняне после одержанной победы подвергли его остракизму и изгнанию. По словам Плутарха, «народ изгнал его остракизмом из желания уменьшить его влияние и силу. Этому подвергались все, чье значение казалось опасным и нарушающим демократическое равенство. Остракизм не был наказанием – он служил лишь удовлетворением чувству зависти и утешением для тех, кому приятно унижение влиятельных личностей и возможность вымещать на них свою злобу, оскорбляя их». Подобная «благодарность» была характерна для многих демократических сообществ. Напомним, что новгородское вече изгнало князя Александра Ярославича Невского после его победы над шведским войском на берегах Невы. Причина оказалась такой же – опасность усиления, говоря современным языком, бонапартистских тенденций.
Последующая история «спасителя Эллады» изобиловала поразительными метаморфозами. Преследуемый афинянами и спартанцами, которые пригрозили ему смертной казнью за предполагаемую измену, он бежал в Азию, где явился к своему давнему врагу – персидскому царю Ксерксу, обещавшему за его голову огромное вознаграждение. Ошеломленный царь, видя перед собой распростертого ниц противника, проявил подлинное превосходство духовной силы – простил ему поражение при Саламине и пожаловал в управление три города. Стремясь проверить преданность нового подданного, Ксеркс предложил Фемистоклу возглавить новое вторжение в Грецию, но храбрый полководец решительно отказался выполнить царское пожелание, заявив, что никогда не поднимет меч на родину. Не видя перед собой иного выхода, он попытался принять яд. Этот поступок еще более возвысил афинского героя в глазах самодержца, и тот отменил поход на Элладу. Фемистокл был осыпан царскими милостями.
Разумеется, сюжет о необыкновенном великодушии персидского царя Ксеркса стал особенно популярным в эпоху просвещенного абсолютизма XVIII–XIX веков, поскольку соответствовал распространенным тогда патерналистским представлениям об идеальном монархе – строгом и заботливом отце своего народа, который не только действует по закону, карая злоумышленников, но и проявляет «милость к падшим». По мотивам исторического сюжета итальянский либреттист Пьетро Метастазио (1698–1782) написал трагедию «Фемистокл». На ее основе итальянский композитор Андреа Бернаскони (1706–1784) сочинил оперу, имевшую колоссальный успех в театрах Европы.
Творчеством Пьетро Метастазио, которого французский просветитель Жан-Жак Руссо называл «единственным гением», интересовалась русская императрица Екатерина Великая. Являясь автором девяти либретто и многих пьес, она считала творения выдающегося итальянца достойными для подражания, на что указывала своим придворным сочинителям. Среди них выделялся ее личный кабинет-секретарь Гавриил Романович Державин (1743–1816). Уже после смерти государыни он попросил князя П.Г. Гагарина перевести ему трагедию «Фемистокл». Пользуясь представленным подстрочником, русский поэт написал одноименную оперу в трех действиях.
Опера Державина «Фемистокл» представляет огромный исторический интерес как свидетельство творческих исканий замечательного стихотворца. К тому же она соответствовала его искренним монархическим убеждениям. Образ всесильного персидского царя перекликался в его стихах с изображением богоподобной императрицы Екатерины Великой:
И зрел бы я ее на троне
Седящу в утварях царей:
В порфире, бармах и короне,
И взглядом вдруг одним очей
Объемлющу моря и сушу.
Взор, объемлющий моря и сушу, замыкающий в себе целый мир, – таков философский смысл единодержавия, философский смысл власти как земной, так и небесной. Этот выразительный символ всевидящего ока известен с древних времен и присутствует практически во всех мифологиях – от египетской и древнегреческой до буддистской и христианской. Неудивительно, что точно таким же взором обладал в глазах подданных и властитель Азии. Древнегреческий поэт Тимофей Милетский (ок. 450–360 до Р.Х.) в своей поэме «Персы», посвященной битве при Саламине, вложил в уста персидского воина необычную угрозу. Тонущий в море воин грозил морскому богу Посейдону тем, что его повелитель, персидский царь Ксеркс, обязательно расправится с ним за гибель войска в эгейских волнах – замкнет во взор бушующее море:
Настанет время – он придет
И соснами азийских гор
Взволнует воды, а простор
Во взор блуждающий замкнет.
Тимофей Милетский считался поэтом-новатором. «Если бы мы не имели Тимофея, – говорил Аристотель, – то в нашей лирической поэзии был бы большой пробел». С похвалой отзывался о нем Платон, и даже суровые дорийцы признавали красоту его песен. Однако удивительные новации поэта вызывали и порицания. Выступая на Элевсинских мистериях, Тимофей дерзнул приладить к семиструнной кифаре еще четыре струны, и возмущенные спартанские цари приказали подвергнуть его изгнанию, чтобы «каждый, видя суровый порядок города, воздержался вносить в Спарту что-либо непотребное». По свидетельству Плутарха, комедиограф Ферекрат высмеивал новаторское творчество Тимофея: «Он всех превзошел своими чудовищными диссонансами, от которых ползут мурашки, недопустимые ноты чрезмерной высоты и какие-то свистульки». На эти нападки поэт с вызовом отвечал: «Старых песен я не пою – мои молодые сильнее!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: