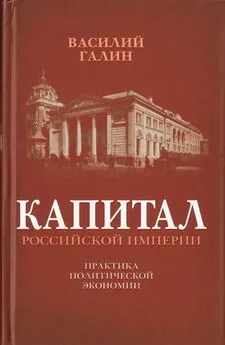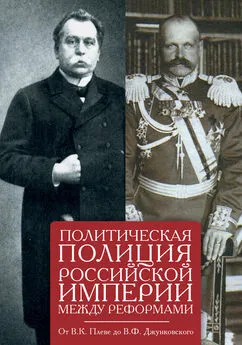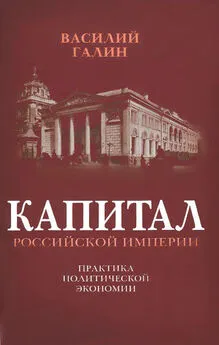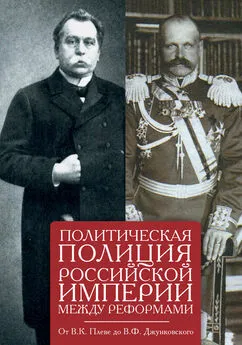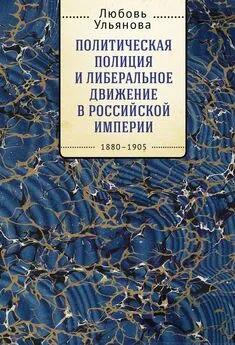Кирилл Соловьев - Политическая система Российской империи в 1881– 1905 гг.: проблема законотворчества
- Название:Политическая система Российской империи в 1881– 1905 гг.: проблема законотворчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2256-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Соловьев - Политическая система Российской империи в 1881– 1905 гг.: проблема законотворчества краткое содержание
Издание рассчитано на историков, студентов гуманитарных специальностей, а также на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Политическая система Российской империи в 1881– 1905 гг.: проблема законотворчества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
109
Там же. С. 28.
110
Там же. С. 29–30.
111
Машинописи материалов и адресов императору московского дворянства и московского земства // ОР РГБ. Ф. 265. К. 116. Д. 31–33. Л. 3 об.
112
Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. С. 288. Схожую мысль защищал А.С. Суворин: «Английская конституция – родное учреждение. Она не существует в виде “хартии” или особого основного закона, организующего власти и основания публичного права. Она образовалась постепенно и вошла в нравы страны. Постоянно повторялось с настойчивостью. что ничего нового не давалось, а это все старые права, которыми английский народ постоянно пользовался» [Суворин А.С. Русско-японская война и русская конституция. Маленькие письма (1904–1908). М., 2005. С. 219]. На сей счет в консервативной среде не могло быть согласия. В отличие от Шипова или Суворина К.Н. Леонтьев полагал конституционную монархию не монархией вовсе: «Конституционная монархия не есть монархия действительная; в конституционном государстве властвует демократическая полиархия, слегка ограниченная исполнительной и большей частью только отрицательной силой “Князя” (Государя)». Более того, конституционная монархия, по мнению Леонтьева, – переходная и исторически кратковременная форма правления, предшествующая установлению «эгалитарной республики» (Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2008. Т. 8. Кн. 2. С. 7–8).
113
[Суворин А.С.] Дневник Алексея Сергеевича Суворина / текстологическая расшифровка Н.А. Роскиной; подг. текста и предисл. Д. Рейфилда, О.Е. Макаровой. L.; М., 2000. С. 64.
114
Там же. С. 306.
115
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 гг. М., 1984. С. 449–472. В.С. Кривенко вспоминал о Д.И. Воейкове: «По рассеянности, по откровенным разговорам, по экзальтированности и по самой внешности, по режущим глаза дефектам костюма он напоминал какого-нибудь ученого-чудака, а не петербургского влиятельного чиновника, оберегающего прежде всего свой престиж, дипломатически отмалчивающегося. Дмитрий Иванович то громогласно развивал планы о сближении правительства с общественным представительством, то дружески шептался, и притом на виду у других, со знаменитым жандармом Судейкиным» (Кривенко В.С. В Министерстве двора. Воспоминания / вступ. ст., подг. текста С.И. Григорьева, С.В. Куликова, Д.Н. Шилова; примеч. С.В. Куликова. СПб., 2006. С. 220).
116
А.Д. Пазухин придерживался скорее славянофильских идеалов. По словам К.Ф. Головина, «это был человека крупного ума, только ума чересчур прямолинейного и потому склонного к иллюзиям. Он был искренне убежден, что порядок управления Россией был почти что идеальный при царе Алексее Михайловиче, что к тогдашним нравам, к тогдашним понятиям нам следовало бы вернуться. А.Д. Пазухин при всей его искренности, при всем его ораторском таланте, одно отличало от славянофилов. У тех, из-за поклонения Москве XVII века, сквозит любовь к России более древней, где свободно гуляли новгородские ушкуйники и столь же свободно удельные князья, чисто по средневековому, воевали и грабили друг друга. У Пазухина симпатии последнего рода отсутствовали вполне. Он искренне любил московского чиновника, приказного, дьяка, “служилого человека”, этого очень мало симпатичного субъекта» (Головин К.Ф. Мои воспоминания. Т. 2. С. 100–101).
117
Реформы в России с древнейших времен до конца XX в.: В 4 т. М.: Политическая энциклопедия, 2016. Т. 3. Вторая половина XIX – начало XX вв. / отв. ред. В.В. Шелохаев. С. 244–255.
118
Записка А.Н. Куломзина Э.В. Фришу // РГИА. Библиотека. Коллекция печатных записок. № 45. Л. 1.
119
Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: Энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010. С. 256–257.
120
Там же. С. 335–337.
121
Валуев ПА. Дневник, 1877–1884. Пг., 1919. С. 186. В связи с этим П.А. Валуев говорил: «Петр Великий прорубил окно в Европу; но многие из наших влиятельных деятелей постарались к этому окну приделать железные ставни и закрывают их, чтобы европейский свет не проник к нам, в Россию. Я старался держать ставни открытыми» (Либрович С.Ф. На книжном посту: Воспоминания. Записки. Документы. М., 2005. С. 240).
122
1 Феоктистов Е.М. Дневник // РО ИРЛИ. Ф. 318. № 9120. Л. 4 об. См.: Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова. СПб., 2015. С. 581–584. Вместе с тем скептическое отношение к славянофильским формулам отнюдь не свидетельствует об охранительном настрое того или иного государственного служащего. Так, критиком славянофильства был сенатор, а впоследствии государственный секретарь А.А. Половцов. Однако он же был сторонником проведения политической реформы. Свои взгляды он изложил в записке 1876 г.
По его мнению, рецепт спасения не следовало искать в славянофильских статьях И.С. Аксакова, как это впоследствии делал министр внутренних дел Н.П. Игнатьев. Не нужно было копировать западноевропейский конституционный опыт. Следовало использовать те правовые и политические практики, которые уже сложились в России к концу 1870-х гг. По мнению Половцова, конституционное устройство – это естественное состояние политического организма. Его нельзя безболезненно перенести с одной почвы на другую. Так, английский конституционный режим – результат многовековой британской истории. Точно так же должно быть и в России: ее правовой уклад должен логически вытекать из предыдущего опыта (Половцов А.А. Дневник // ГА РФ. Ф. 583. Оп. 1. Д. 7. Л. 83).
Половцов специально подчеркивал: он не ставил под сомнение незыблемость самодержавия. Пространства России, весь исторический опыт страны подразумевали именно самодержавное правление. Но во второй половине XIX в. об этой форме правления оставалось лишь вспоминать. В действительности в России установилась диктатура министров, от которых император полностью зависел (Там же. Л. 85).
С точки зрения Половцова, прежде всего, следовало обеспечить постепенный переход власти от чиновников к «нечиновникам», общественным деятелям. Бюрократ – в большинстве случаев человек зависимый, не способный к самостоятельным суждениям (Там же. Л. 87). Фундаментом же будущих преобразований должно стать земство (Там же. Л. 73). Его представителям следовало дать право законодательной инициативы. Кроме того, они должны получить право контролировать бюджет. Наконец, и правительственным агентам следовало так или иначе отвечать перед ними (Там же. Л. 74). По оценке Половцова, к концу 1870-х гг. первые две функции принадлежали Государственному совету. Третья (правда, в высшей степени условно) – I департаменту Сената (Там же. Л. 75). Все это позволяло Половцову считать Государственный совет не законосовещательным, а законодательным учреждением (Там же. Л. 82). Тем важнее правильно организовать его работу, разумно отбирать его членов. В нынешнем его виде Государственный совет не мог вполне справиться со своими обязанностями. Его состав был в значительной мере случайным. Полноценные прения фактически не позволялись. При таких обстоятельствах планомерное обсуждение законопроектов было практически исключено, что предопределяло низкое качество нормативной базы в стране (Там же. Л. 83).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
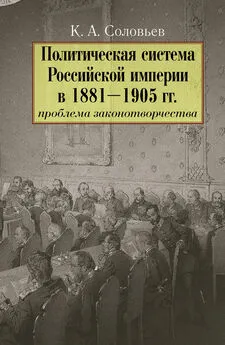
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)