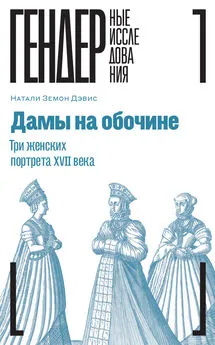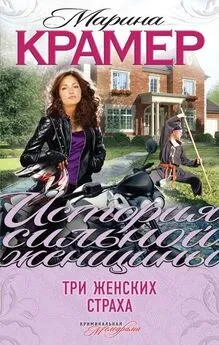Натали Земон Дэвис - Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века
- Название:Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814376
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Натали Земон Дэвис - Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века краткое содержание
Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Туземные народы рассудили бы иначе. В густонаселенных лесных массивах, куда вторглись французы, жили племена, говорившие на алгонкинских языках (микмаки далеко на востоке, абнаки к югу от реки Св. Лаврентия, монтанье и алгонкины на севере), а также носители ирокезских наречий, т. е. ирокезы, обосновавшиеся в районе озер Фингер-Лейкс, и гуроны, петены (так французы называли тиононтати, «табачное племя») и «нейтральные» племена выше озер Гурон и Эри 303. Они много передвигались, как по водным путям, так и по лесам всего региона, и если гуроны и ирокезы называли французского губернатора «Ононтио» (что значит «Большая Гора» – по фамилии предыдущего губернатора, Юола де Монмани), нет никаких оснований утверждать, что индейцы считали его или его далекого начальника хозяином своей земли 304.
Алгонкины, монтанье и другие носители алгонкинских наречий были в основном охотниками и собирателями, а потому часто перемещали свои стоянки. Гуроны, ирокезы и прочие ирокезоязычные индейцы, наряду с собиранием, охотой и рыбной ловлей, занимались палочно-мотыжным земледелием. Мужчины готовили поля для возделывания, но обрабатывали землю женщины, выращивая маис, бобы, тыкву и, в отдельных местах, табак. Женщины во всех случаях собирали плоды и прочую снедь, а также запасали дрова. Если сельскохозяйственные деревни снимались с места (а они меняли стоянку каждые несколько лет), иногда их гнал страх перед врагами, но обычно это происходило потому, что женщины объявляли поля утратившими плодородие, а окрестности – лишенными подходящего топлива на многие мили вокруг. Мужчины отвечали за охоту и рыбную ловлю, хотя активные женщины сопровождали в такие экспедиции своих мужей или отцов – когда не были заняты земледелием и другими работами дома. В пути на женщин часто ложилась переноска тяжестей.
Обязанности в области искусства и ремесел распределялись поровну. Мужчины изготовляли оружие и инструменты из камня, кости и иногда кусочков меди, вырезали обычные трубки и калюметы (трубки мира), строили хижины и вигвамы, сооружали остовы для челноков и рамы для снегоступов. Женщинам поручалось всякое шитье, нанизывание и ткачество, изготовление ниток и тесьмы с помощью ручного ссучивания, натягивание кожаных ремешков на снегоступы, а также изготовление корзин и берестяных котелков, плетение сетей и тростниковых циновок. Женщины также занимались гончарством и делали украшения из иголок дикобраза, раковин, шерсти лося и бересты 305. Как только мужчинам удавалось убить на охоте какое-нибудь животное, оно поступало в распоряжение женщин, которые тащили тушу в лагерь, снимали и чистили шкуру, размягчали и пропитывали жиром меха, шили одежду, кожаные мешки и мокасины. Что касается еды, ее готовили женщины: перемалывали кукурузу в муку, жарили и коптили мясо, делали варево, закладывая в один котел по нескольку разных продуктов.
Такое разделение труда казалось несправедливым первым описавшим его французам, которые, очевидно, сравнивали его с европейской системой земледелия, где мужчины обычно шли за плугом, а женщины работали в поле мотыгой или занимались садом и огородом, а также с принятыми в Европе переноской и перевозкой тяжестей, где мужчины делали по крайней мере не меньше женщин. «Женщины трудятся несравнимо больше мужчин» – так еще в 1536 г. отозвался Жак Картье о встреченных им ирокезоязычных племенах. В 1616 г. иезуит Биар выразился – про абнаков – и того резче: «[У мужчин] нет другой прислуги, рабов или ремесленников, кроме женщин: эти несчастные создания терпят все невзгоды и трудности». Такое же наблюдение сделал францисканец Габриель Сагар в отношении гуронов, среди которых жил в 1623 г. («женщины исполняют всю работу, обычно предназначаемую рабам, трудясь больше, нежели мужчины»), однако он делает радостный вывод, что «их никто не заставляет и не принуждает к этому» 306.
В отличие от приезжих мужчин Мари Воплощения воспринимала тяжкий труд женщин как данность, как факт, определяющий время, когда молодые женщины и девочки могут приходить в монастырь для учебы: «летом [писала она сыну в 1646 г.] дети не могут покинуть матерей, а матери – расстаться с детьми, так как последние должны помогать на маисовых полях и в выделке бобровых шкур» 307. Чего еще было ожидать Мари Гюйар? Разве она сама не занималась в доме обозничего всем, начиная от чистки лошадей и кончая ведением конторских книг? Разве она не бралась в турском монастыре за изготовление запрестольных образов и церковной утвари? Разве сейчас, в урсулинской обители в квебекской тайге, она не вернулась к росписи алтаря 308, не говоря уже о приготовлении еды, выносе помоев и таскании бревен? Многие годы спустя она рассматривала разделение труда как часть «свободы», присущей «дикарской жизни», свободы, из‐за которой индейцы и предпочитали свой жизненный уклад французскому. Пока женщины хлопотали по дому, мужчины курили; в каноэ женщины и девочки гребли наравне с мужчинами. Такое положение было привычно им, они считали «естественным» его, и никакое иное 309.
Тем не менее одну вещь ни гуроны, ни алгонкины, ни ирокезы не находили естественной. Вместе с телесными соками англичан, французов и голландцев в Канаду пришли новые болезни: инфлуэнца, корь и особенно оспа наносили большой урон уязвимым популяциям америндов, так же как бубонная и легочная чума с середины XIV в. косила своими эпидемиями жителей Европы (очередной всплеск чумы пришелся в Туре на 1631 г., когда после смерти одной из послушниц урсулинки временно перебрались в загородный дом, который сдала им Клод Гюйар) 310. Уже с середины 30‐х годов в факториях и деревнях, где занимались обращением в христианство иезуиты, появилась инфекция оспы; в 1639 г. она распространилась по долине Св. Лаврентия и всего через несколько месяцев после открытия урсулинского монастыря вступила в него, унеся жизни четырех алгонкинских девочек. Эпидемия вернулась в 1646–1647 гг., когда заразились гуроны и ирокезы, а затем еще раз в 1654 г. Индейцы по-разному откликались на эти беды: одни называли Черные Балахоны, т. е. иезуитов, колдунами, обвиняя их в том, что они распространяют болезнь через обряд крещения, через образа, кресты и сахар-рафинад (Мари считала это «ошибкой» со стороны «дикарей», поскольку сама она, как и во Франции, видела причину эпидемий не в скрытых носителях инфекции, а в Божьем промысле) 311; другие чаще обычного прибегали к шаманству, устраивали исцеляющие пляски и праздники; третьи искали утешения в христианских молитвах и обрядах. Как бы ни помогали все эти способы, смертность оставалась высокой. К середине века популяции туземцев сократились наполовину, причем некоторые из них так и не восстановили свою численность 1620‐х годов 312.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: