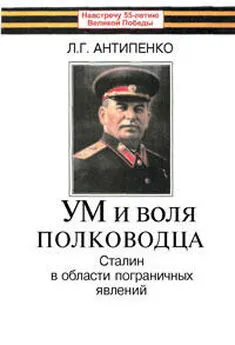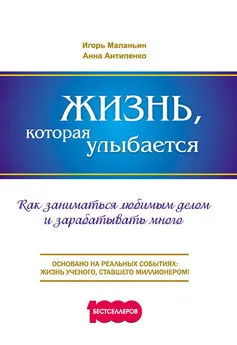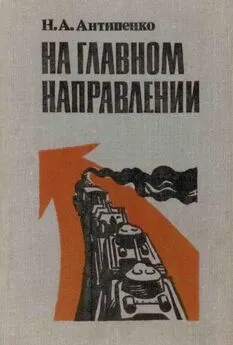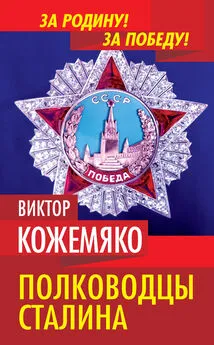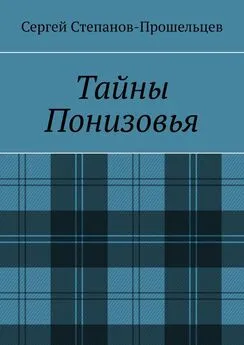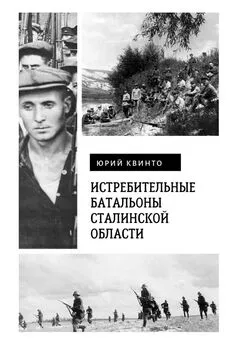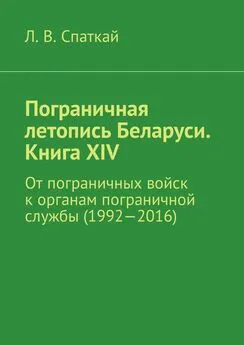Л. Антипенко - Ум и воля полководца (Сталин в области пограничных явлений)
- Название:Ум и воля полководца (Сталин в области пограничных явлений)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л. Антипенко - Ум и воля полководца (Сталин в области пограничных явлений) краткое содержание
Как неоднократно подчеркивал в своих исследованиях испанский философ Ортега-и-Гассет, в окружающей действительности мы видим, как правило, лишь то, что предвидим. И если случается что-то совсем непредвиденное, люди отказываются в это верить. И. В. Сталин принадлежит к тем явлениям всемирной истории, которые выпадают из кругозора абсолютного большинства штатных историков и журналистов. В Великой Отечественной Войне, став во главе народа освободителя, он совершил то, что, казалось, не по силам любому смертному.
Как и в чем Сталин черпал силы во время противостояния мировому злу, «князю мира сего»? В какой-то мере на этот вопрос пытается ответить в своем исследовании кандидат философских наук Л. Г. Антипенко.
Находки автора подрывают фальшивые устои заказного толкования биографии Сталина и определяют направление дальнейших поисков в этом вопросе.
Ум и воля полководца (Сталин в области пограничных явлений) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только позднейшее течение событий повернулось в другое русло, и революционный террор стал обретать неожиданный смысл для тех, кто его затеял. В 1933 г., когда по личному распоряжению Сталина издательством «Academia» была выпущена в свет книга «Житие протопопа Аввакума», контуры священной сталинской войны с «легионом» были уже вполне различимы. Ведь ее продолжительность составляла к тому времени не менее 10 лет.
В телефонном разговоре, состоявшемся между Сталиным и Крупской в 1922 году, Иосиф Виссарионович недвусмысленно дал понять на соответствующем жаргоне, к какой категории людей относит он ее, а вместе с ней и всех остальных ближайших сподвижников Ленина.
Ленин, будучи к тому времени безнадежно больным, вынужден был реагировать на этот вызов, о чем свидетельствует специальная записка, подготовленная им к очередному съезду РКП (б) в декабре 1922 г. с добавлением от 4-го января 1923 года. Обнаружив в своих рядах влиятельного человека, находящегося в противоположной категории революционного сообщества, и видя предстоящий в связи с этим раскол в партийной верхушке, он делал последние судорожные попытки свести к минимуму ущерб от того ряда «негативных» событий, которыми он уже не мог управлять. Записка интересна прежде всего тем, что мы находим в ней характеристику представителей ленинской «когорты», полученную изнутри самой этой «когорты».
Ни один честный исследователь, ознакомившись с ней, не сможет утверждать, что облик «истинных революционеров» искажен их врагами. Вот примеры отдельных персоналий с короткими к ним комментариями: «… тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела» (см.: Ленин В. И., ПСС, т. 45, с. 345).
Из «чисто административной стороны дела» Троцкому, как известно, принадлежит инициатива по организации в России концентрационных лагерей, что и было оформлено соответствующим решением IX-го съезда РКП (б). Ленин, видимо, не хотел, чтобы такая черта деятельности Троцкого была слишком заметной. «… октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью, но он также мало может быть ставим им в вину лично, как необольшевизм Троцкому» (там же). Речь в данном случае идет о прямом предательстве интересов партии со стороны Зиновьева и Каменева, когда они раскрыли замышляемый большевиками план государственного переворота в октябре 1917 года. Но Ленин не ставит в вину лично им данное предательство, так как такое поведение присуще всей когорте и в особенности важнейшему ее представителю — Троцкому. «Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он ниюгда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)» (там же).
При такой характеристике Бухарина любой нормальный человек станет в тупик, так как он не поймет, как можно быть крупнейшим теоретиком партии и в то же время никогда ничему не учиться, даже марксизму. Какими же принципами руководствовались эти люди, присваивая себе эпитеты «честнейших» и «крупнейших»? Их принципы были подчинены жесткому правилу отбора, выражаемому словами: «принадлежит — не принадлежит». О какой принадлежности идет речь, становится ясным из характеристики Сталина. «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношениях Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение» (там же, с. 346). За вязью таких слов, как «слишком груб», «терпим», «лоялен», «ничтожная мелочь» (превращающаяся в мелочь, «которая может получить решающее значение») и т. п., проглядывает у Ленина в конце концов однозначный эталон принадлежности к «когорте», и таким эталоном в данном конкретном случае выступает Троцкий, которого, как известно, сам Ленин называл «проституткой». До поры до времени как Сталин, так и его противники внутри партии, не были заинтересованы в том, чтобы раскрывать свою принадлежность к противоположным категориям параллельного мира. Грубый партийный жаргон, о котором упоминает в своей записке Ленин, указывает лишь на общий признак этого мира. Его же фундаментальные внутренние противоречия были раскрыты позже. И теперь мы можем судить о них благодаря публикации таких документов эпохи, как «Красная симфония» И. Ландовского.
Седьмого апреля 1989 г. в газете «Правда» была помещена статья «Коминтерн: время испытаний». Среди представителей международного коммунистического движения, обвинявшихся во второй половине 30-х в контрреволюционной деятельности и шпионаже, статья упоминает имя «Г. Раковского, которого сам Сталин „называл английским шпионом“». Судьба Раковского необычна. Его судили по делу троцкистов в 1938 г. вместе с Бухариным, Рыковым, Ягодой, Караханом, доктором Левиным и другими, но сохранили жизнь за какие-то важные показания. «Красная симфония» (см. ж. «Молодая гвардия», 1992 г., № 3–4) и раскрывает как раз содержание этих показаний. Раковский давал их агенту НКВД Габриелю (Рене Дувалю) в присутствии медика И. Ландовского. Ландовский же, делавший распечатку машинной записи допроса и перевод ее с французского языка на русский, смог сохранить у себя копию столь важного документа. А адресован он был непосредственно Сталину. В «Красной симфонии» вскрывается тайна беззакония мировой закулисы, и не приходится сомневаться, что подобного рода документы помогали Сталину корректировать свои действия по укреплению государственной безопасности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: