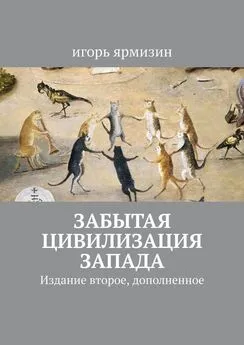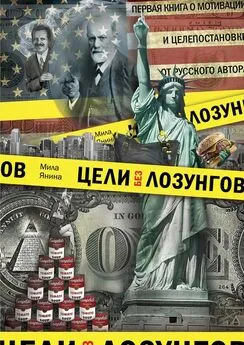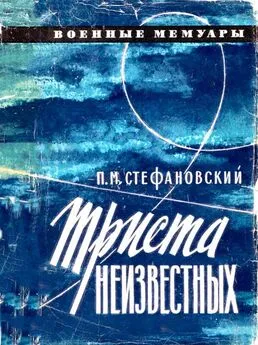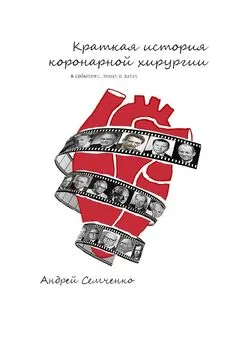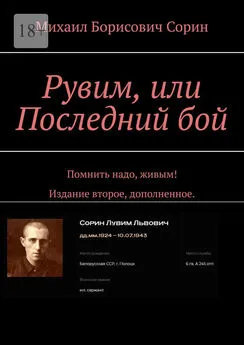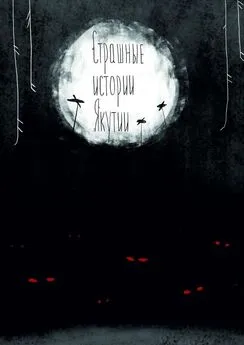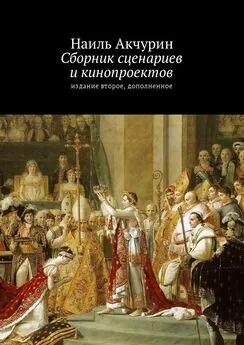Игорь Ярмизин - Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное
- Название:Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005102386
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ярмизин - Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное краткое содержание
Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глубокие, самые интимные религиозные чувства в ту эпоху захватили всех, даже самых красивых и знатных женщин: молодые аристократки, поглощенные пустословием и легкомысленностью, казалось бы, наслаждались жизнью, сплетнями, интригами. Но… Возьмем, к примеру, Беатрису ван Равестейн, – одну из первых дам Бургундского двора. На ней, как и подобает, роскошнейшее платье с множеством драгоценных каменьев. А под платьем – власяница, надетая прямо на голое тело. Овечья или козья шерсть, из которой она сделана, очень жесткая и ежесекундно колет веселящуюся или ведущую учтивую беседу даму. Современник говорит о Беатрисе: «Одетая в золотошвейные одежды, убранная королевскими украшениями, как то подобает ее высокому рангу, и казавшаяся самой светской дамой из всех; обращавшая слух свой ко всякой пустой речи, как то многие делают, и тем самым являя взору внешность, полную легкомыслия и пустоты, – носила она каждый день власяницу, надетую прямо на голое тело, нередко постилась, принимала лишь хлеб и воду, и, в отсутствие мужа, немало ночей спала на соломе» 15 15 «Спать на соломе» или даже на золе было в те времена не только одним из элементов аскезы, но и напоминанием самому себе о прахе, из которого ты вышел и в который вернешься.
.
А вот потусторонний мир: черти, ведьмы, лешие, просто умершие, пришедшие к живым. Их видели бессчетное количество раз: мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные. Такой выдающийся интеллектуал как Рауль Глабер признается, что лично видел демонов и самого Сатану. Последнего – целых три раза. Причем он не соблазнял, а ужасал и преследовал проницательного монаха как жертву. Один из таких случаев произошел в предрассветной мгле, в монастыре Сен-Лежар-де-Шампо. От Глабера не ускользнули даже мельчайшие детали внешнего облика Нечистого. «Вдруг я увидел, как у меня в ногах появилось некое страшное на вид подобие человека. Это было, насколько я мог разглядеть, существо небольшого роста с тонкой шеей, худым лицом, совершенно черными глазами, бугристым морщинистым лбом, толстыми ноздрями, выступающей челюстью, толстыми губами, скошенным узким подбородком, козлиной бородой, мохнатыми острыми ушами, взъерошенной щетиной вместо волос, собачьими зубами, клинообразным черепом, впалой грудью, с горбом на спине, дрожащими ляжками, в грязной отвратительной одежде».
Кажется, дух Средневековья с его кровавыми страстями мог царить лишь в мире идеального. Каким-то феерическим крещендо он взвинчивается до предела, до невозможности, недостижимости. Он – настоящее испытание, ниспосланное людям. Он настолько высок, что даже достигнув высочайших вершин, даже уровня Франциска Ассизского, человек все равно оставался в полной уверенности в своей ничтожности, бесконечной греховности, его мучало постоянное чувство вины. Без неистовства, охватившего миллионы мужчин и женщин, без фанатиков и изуверов святые той эпохи просто не могли существовать.
И только один звук объединял всю эту феерию цветов, эмоций, криков, красок; соединял пестроту и многообразие быстротекущей жизни в единый лад неба и земли. Это звук колокола: он возвещал горе и радость, покой и тревогу, созывал народ и предупреждал об опасности. И каждый отличал эти колокола по звучанию и именам: Роланд, Страшный, Толстуха Жаклин… Их голоса раздавались первым человеческим криком и завершались последним погребальным звоном, призывающим недостойного раба божьего в укромные недра бытия.
Отношение к детям
Не будет преувеличением сказать вслед за одним историком, что хотя средневековье – это эпоха молодых, тем не менее, она не знала детей. На протяжении целой тысячи лет мы не видим маленьких королей жизни, не встречаемся с бесконечными попытками угодить им. Ни сюсюканий, ни нарочитых обожаний со стороны взрослых, ни забрасываний игрушками и другими подарками. К слову отметим, что такая ситуация продолжалась вплоть до XVII столетия, и изменение отношения к детям – еще одна важная деталь в процессе «изживания» остатков средневековья. А в те далекие века даже де-юре человек считался взрослым, начиная с 12 лет. В этом возрасте, скажем, в Англии он приносил присягу на верность королю и обществу (позже эта клятва легла в основу английского общего права), а также вступал в «сообщество десяти». Т.е. десяти человек, которые сообща несли ответственность за деяния каждого.
Равно как и не было никакого особого отношения к беременной женщине. Последние были беременны почти постоянно, лишь с небольшими перерывами, поэтому равнодушное или, точнее, нейтральное отношение к ним характерно для всех без исключения слоев общества.
Несмотря на колоссальную детскую смертность, общество в те времена было (в среднем) очень молодым, – возраст половины населения не превышал 18 лет! Понятно, что немногочисленные (в процентном отношении) труженики, обладавшие, к тому же, крайне низкой производительностью труда, физически не могли обеспечить всех. Поэтому детям с самого раннего возраста приходилось много и тяжело трудиться. Хотя и время для игр все равно всегда находилось. Доказательством тому служит множество игрушек, найденных археологами, – от свистулек и мячей до маленьких предметов кухонной утвари и кукол.
В целом, бросается в глаза, что у средневековых авторов отсутствуют, пожалуй, две такие естественные и общераспространенные сегодня вещи: умиление детьми и жалобы на усталость. Последних тоже нет вообще. Интереса ради каждый может сравнить нынешние тяготы, вызывающие столько стенаний (вроде маленькой зарплаты или дорогой ипотеки), с теми, которые приходилось испытывать людям в средние века.
Конечно, ровное отношение к детям не означает, что в те годы не существовало родительской заботы и любви: эти чувства универсальны для всех времен и народов. Они были. Но иные, не такие, как сейчас. Даже родительская любовь другая. Вот воспоминания отца, потерявшего от чумы в середине XV века жену, сына и семерых дочерей, о смерти единственного наследника. «Подойдя к порогу смерти, он являл собой восхитительное зрелище, когда, несмотря на свой столь юный и нежный возраст – 14,5 лет – сознавал, что умирает… В течение своей болезни он три раза с большим раскаянием исповедался, принял святые дары Господа Нашего Иисуса Христа с таким благоговением, что все присутствующие преисполнились любовью к Богу; наконец, попросив священного елея и продолжая читать псалмы вместе с окружавшими его монахами, он мирно отдал душу Богу».
Жесткость средневековья выражалась в том, что Церковь раздражало даже самое ненавязчивое, скорее мимолетное, хотя может быть и глубокое, проявление любви: все эти поцелуйчики, это «милование», могло показать (по ее мнению), что создания Бога для кого-то важнее Его самого. От церкви же исходили и важные советы в деле воспитания. Например, не расспрашивать ребенка, не смотреть на него чересчур пристально – это ему повредит; внимательно следить, чтобы в него не вселился бес, как это нередко случается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: