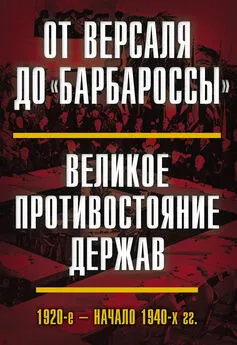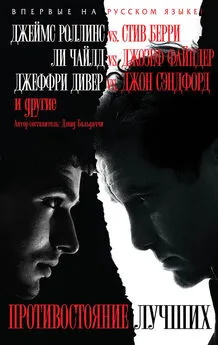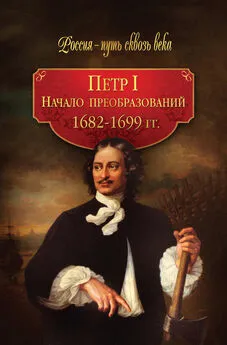Array Коллектив авторов - От Версаля до «Барбароссы». Великое противостояние держав. 1920-е – начало 1940-х гг.
- Название:От Версаля до «Барбароссы». Великое противостояние держав. 1920-е – начало 1940-х гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906979-36-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - От Версаля до «Барбароссы». Великое противостояние держав. 1920-е – начало 1940-х гг. краткое содержание
В книге на широкой документальной основе рассмотрены ключевые аспекты военно-политической истории СССР в контексте мировых событий – от Версальского мирного договора и Парижской мирной конференции до начала Великой Отечественной войны.
От Версаля до «Барбароссы». Великое противостояние держав. 1920-е – начало 1940-х гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем и во внешнеполитической деятельности СССР по отношению к государствам, где фашисты и национал-социалисты пришли к власти, не все было так однозначно. Первоначально лидерами Коминтерна, а также руководством ВКП(б), опасность для мира со стороны национал-социализма в Германии вряд ли учитывалась в полном масштабе. Хотя в тезисах XIII пленума ИККИ 12 декабря 1933 года, а также в резолюциях VII Всемирного конгресса Коминтерна 20 августа 1935 года, было сформулировано известное классическое, одобренное Сталиным, определение фашизма: «открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала» [187] XIII пленум ИККИ. Стенографический отчет. М., 1934. С. 589.
– и содержались призывы к созданию единого антифашистского фронта, однако на конкретных дипломатических шагах СССР эта линия была мало заметна [188] РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1314. Л. 122–128.
.
При рассмотрении ныне известных документов о советско-германских отношениях после прихода к власти Гитлера позиция советского руководства представляется сложной. С одной стороны, было прекращено военное сотрудничество. Например, о закрытии немецкого учебно-летного центра в Липецке по финансовым соображениям германская сторона сообщила уже в январе 1933 года. Закрытие других центров и прекращение совместного участия офицеров в штабных маневрах и прочих мероприятиях основывалось на двусторонних решениях [189] См.: Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР – Германия: 1933–1941. М., 2009. С. 68–69.
. С другой стороны, советская дипломатия подчеркивала свою приверженность принципам Рапалло и указывала на то, что разница в идеологических подходах во внутренней политике не может служить препятствием для плодотворного сотрудничества между двумя странами. Так, в беседе с германским послом Г. фон Дирксеном 4 августа 1933 года В. М. Молотов подчеркнул, что советское правительство во взаимоотношениях между СССР и Германией руководствуется, как и с другими странами, принципом «сохранения и укрепления дружественных отношений» [190] Там же. С. 67.
.
В то же время Советский Союз очень серьезно относился к антисоветским выпадам нацистских властей. Это следовало из записи той же беседы Молотова 4 августа 1933 года, когда председатель СНК СССР обратил внимание Дирксена на неоднократные враждебные Советскому Союзу выступления со стороны официальных германских деятелей [191] Там же.
. Только в 1933 году СССР отправил Берлину 217 протестов по поводу грубого преследования советских граждан и учреждений в Германии [192] ДВП СССР. Т. XVI. С. 818, 858.
. Однако при этом сохранялись торговые отношения. 20 марта 1934 года было подписано соглашение, на основании которого немецкая сторона пролонгировала 140-миллионный кредит. Условия кредита были улучшены по сравнению с предшествующим годом [193] Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР – Германия: 1933–1941. С. 92.
.
После антисоветских высказываний Р. Гесса в Данциге в начале апреля 1935 года и ведущих представителей НСДАП на съезде партии в Нюрнберге в сентябре 1935 года М. М. Литвинов каждый раз предлагал заявить протест. Однако Политбюро ЦК ВКП(б) отклоняло его предложения по рекомендации заместителя Литвинова Н. Н. Крестинского, который разъяснил 16 сентября 1935 года, что пользы от протеста будет меньше, чем вреда, и сослался на то, что в Нюрнберге не раздавалось личных нападок ни на кого из советских руководителей [194] Там же. С. 116–117, 129–130.
. Видимо, отклонение протестов было сделано, чтобы не поставить под угрозу переговоры по торговле и кредитам. В 1935 году советский торгпред в Берлине Д. В. Канделаки провел серию переговоров с министром экономики Германии Я. Шахтом. В опубликованной выписке из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 22 марта того же года была сделана следующая запись: «Разрешить торгпреду в Германии т. Канделаки подписать соглашение о торговле на 1935 год и о пятилетнем кредите на сумму 200 млн марок». 4 мая было принято решение о посылке комиссий для размещения заказов в Германии в счет этого кредита [195] Там же. С. 115, 125.
. В конце ноября 1935 года полпред СССР в Берлине Я. З. Суриц получил инструкции «активизировать контакты с немцами» [196] ДВП СССР. Т. XVIII. С. 569.
. Торгово-кредитные отношения с Германией продолжались и в 1936 году.
Эти факты дали основания ряду исследователей сделать вывод, что советская политика «коллективной безопасности» есть «не что иное, как тактический ход, удобный камуфляж генеральной линии сталинской стратегии». Утверждается, что эта стратегия, как и ранее, была направлена «на разделение мира и сталкивание одних государств с другими, на углубление противоречий и конфликтов», то есть стратегия, связанная «в конечном счете с экстраполяцией марксистско-ленинского учения о классовой борьбе на сферу международных отношений» [197] СССР, Восточная Европа и Вторая мировая война, 1939–1941: дискуссии, комментарии, размышления / отв. ред. и сост. С. З. Случ. М., 2007. С. 8.
. Исследователи не располагают достаточным объемом документальных материалов, чтобы дать столь негативную оценку сущности советской политики «коллективной безопасности». В данном случае, когда речь идет конкретно о миссии Канделаки, скорее правомерен вывод, что это было свидетельство того, что «советское правительство заботилось в первую очередь о важных оборонных поставках, а желание в целом улучшить отношения с Германией играло подчиненную роль» [198] Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР – Германия: 1933–1941. С. 21.
.
Негативным сдвигам на международной арене способствовала агрессия фашистской Италии против Эфиопии, начавшаяся 4 октября 1935 года. Советский Союз выступил в защиту государственного суверенитета Эфиопии, хотя и не имел с ней дипломатических отношений. 5 сентября 1935 года народный комиссар иностранных дел СССР М. М. Литвинов на заседании Совета Лиги в Женеве обратил внимание на то, что «налицо несомненная угроза войны, угроза агрессии». От имени советского правительства он предложил Совету «не останавливаться ни перед какими усилиями и средствами, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между двумя членами Лиги и осуществить задачу, которая является смыслом существования Лиги» [199] ДВП СССР. Т. XVIII. С. 494, 496.
.
Срочно собравшийся Совет Лиги Наций признал Италию агрессором и поставил вопрос о применении санкций против нее. Был образован координационный комитет из представителей 50 государств, принявший решение о применении к Италии экономических санкций: запрет экспорта военных материалов и предоставления займов и кредитов; введение эмбарго на импорт итальянских товаров; запрещение экспорта стратегического сырья (каучука, алюминия, железной руды, хрома, никеля, олова и т. д.). Однако из-за сопротивления Франции, опасавшейся победы левых сил в Италии, санкции вступили в силу только через полтора месяца после начала агрессии, что позволило Италии еще до их введения создать необходимые запасы. Кроме того, по ряду пунктов санкции оказались просто призрачными. Участники политики санкций так и не смогли договориться о запрете экспорта в Италию нефти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: