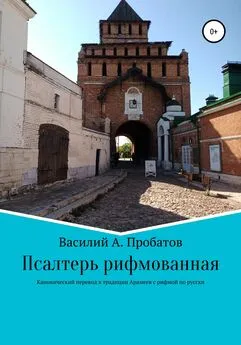Василий Игнатьев - «DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть III. Пермская духовная семинария начала XX века
- Название:«DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть III. Пермская духовная семинария начала XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Игнатьев - «DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть III. Пермская духовная семинария начала XX века краткое содержание
«DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть III. Пермская духовная семинария начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А. П. в этом отношении был полной противоположностью Потоцкому. Нам никогда не приходилось видеть его сильно возбуждённым, слышать его повышенный голос. У него была совершенно другая манера речи: тихо, спокойно язвить, наносить уколы провинившемуся, а потом свести с ним счёты на заседании совета семинарии и объявить об увольнении.
А. П. был воспитанником Казанской дух[овной] академии, имел учёную степень магистра богословия и, таким образом, среди наших учителей и руководителей был самым учёным человеком. 131Мы придавали этому большое значение, и для нас А. П. был самым авторитетным человеком. Вот почему мы иногда приглашали его к себе в класс в часы вечерних занятий с простой, лаконично высказанной просьбой: «расскажите нам что-нибудь». 132
Запомнился такой случай: пришёл к нам А. П. с какой-то книжкой на французском языке, с которой, очевидно, застала его наша просьба. Он говорил нам о Достоевском 133примерно около часа. Говорил он с увлечением, хотя тихо и спокойно. Нас поразило то, что говорил он без запинки, хотя экспромтом. Мы мало тогда разбирались в том, что говорил А. П. о Достоевском; понимали только то, что он был поклонником Достоевского. Позднее стало ясно, что то, что у Достоевского было наиболее реакционным, составляло credo 134А. П. 135Он настолько был увлечён некоторыми местами из сочинений Д., что читал их наизусть. 136
Когда мы учились в пятом классе, А. П. преподавал нам «Новый Завет» и для иллюстрации некоторых своих объяснений он опять-таки апеллировал к Достоевскому. У него был и самый метод преподавания несколько отличный от метода других учителей; а именно: он почти не прибегал к проверке наших знаний, а всё внимание сосредоточил на своих объяснениях, которые больше походили на проповеди или душеспасительные беседы. Никто другой, как он, вероятно, не верил так в силу слова, в убедительность речи, как А. П. Вот почему он часто произносил проповеди, причём его проповеди больше всего были рассчитаны не столько на чувства слушателей, сколько на то, чтобы убедить в необходимости и правоте религии. Но иногда его проповеди направлены были и непосредственно на воспитание семинаристов. Так, когда мы «говели» 137, то при чтении «часов», на каждом из них А. П. выступал с кратким словом «молитвами иже во святых отца нашего Исаака сириянина…», которое было рассчитано на создание покаянного настроения у нас. Он, безусловно, верил в то, что, таким образом, проповедями, можно воспитать людей, и он, безусловно, стремился к этому, был идейно предан этому делу.
Что работа инспектором не была для него стремлением к карьере видно из того, что он отказался от предложенной ему Казанской дух[овной] академией лестной карьеры профессора и предпочёл работать инспектором семинарии. К слову сказать, он никогда не кичился своей научной степенью магистра и вообще всегда был скромен в проявлении своей личности: скромно одевался, был скромен в быту.
Что А. П. идейно был предан своему делу и верил в это дело, об этом свидетельствует то, что он на свои средства в одной из комнат своей квартиры создал для семинаристов читальню, в которой были газеты и журналы типа «Русского паломника». 138В ученическую библиотеку А. П. подарил сочинения Писемского. 139
[ 140]
А. П. работал в нашей семинарии в возрасте 32-38 лет. По нашим тогдашним представлениям этот возраст казался уже почти старым; молодыми мы считали только людей своего возраста. Вот почему зная, что он холостяк, мы считали, что для него не существует, так называемого «женского вопроса», тем более что нам никогда не приходилось видеть его в женском обществе, и он представлялся нам неким отшельником, подвижником, вроде толстовского отца Сергия в одноименном его рассказе. 141
Но произошло одно событие, которое вызвало сенсацию, взбудоражило наши умы и ввергло их в соблазн. Один семинарист, побывавший в оперном театре, на другой день громогласно объявил: «ребята, А. П. вчера был в театре с экономшей». Так называлась у нас жена нашего эконома – диакона Славнина. Если бы мы захотели конкретно представить себе всю картину смятения семинаристов, вызванного поразившей нас новостью, то разве только можно его сравнить с тем, как это изображено у Ф. М. Достоевского по поводу смятения духа у Алёши Карамазова, когда он узнал о том, что труп почитаемого им старца Зосимы стал смердеть. 142Дело в том, что жена эконома была не просто женщиной, но женщиной красавицей с неотразимой, как говорят, красотой, и нашему воображению в этом случае представлялась в виде жены Пентефрия, старавшейся обольстить Иосифа прекрасного. 143
Другой, как нам казалось, необычный случай ещё более привёл нас в крайнее смятение, выражаясь монашеским языком – в искушение. После одних летних каникул А. П. приехал в семинарию с девушкой, лет 17-18. Пошли слухи, что это его племянница-сирота, что он был для неё единственным родственником, который мог её призреть. Так это, вероятно, и было на самом деле. Но на этом не могла остановиться пылкая фантазия семинаристов, и пошли слухи, которые приписывали ей или образ Сони Мармеладовой 144, или Виолетты из «Травиаты» 145, а самого А. П. представляли в образе толстовского [отца] Сергия в момент его искушения. Говорили также, что А. П. привёз её с собой для перевоспитания. Что им в этом случае руководило, и как он решился на такой шаг, который мог вызвать разные толки и кривотолки, осталось тайной, но не хотела оставаться только тайной сама виновница этих толков: обладая острыми глазами, наблюдательностью и, может быть, некоторым опытом, она скоро заметила другие пытливые глаза, манящие к себе. Утверждали, что дело дошло до обмена записками, но… наступил день, когда племянница А. П. больше не показывалась. Всё!
Нет, не всё! Мы решили всё-таки точно узнать у А. П., как он мыслит по женскому вопросу. Однажды был ему задан вопрос, нам тогда казалось серьёзный: «Что такое женщина?» 146Александр Павлович был, конечно, не глупый человек, а оказался способным на плоское, пошлое замечание, вся глубина которого нам стала понятна позднее, когда мы узнали, что бывают люди, у которых уживаются вместе и наружное благочестие и самая отвратительная пошлость. 147Таким, например, в будущем предстал небезызвестный архиепископ Волынский Антоний из князей Храповицких. Потом стало нам понятно, как получился человек такого склада, как А. П. Люди такого типа складывались в специфических условиях жизни студентов дух[овных] академий. Оторванные от всего жизненного, под влиянием монахов, они вырабатывали в себе какой-то туманный идеал подвижника, оторванного от широкой окружающей жизни, очень часто женоненавистника. Как получился таким А. П.? Когда мы ставили этот вопрос конкретно по отношению [к] А. П., то грешным делом думали: не толкнуло ли его на это сознание некоторой неполноценности в физическом развитии: низкого роста, тщедушного вида, с неприятно торчащими ушами (как у Каренина в романе «Анна Каренина» 148), с наклонностью к лысению, как мы думали, он мог быть расположен к мизантропии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: