Сергей Федоров - Королевская семья и церемониальное пространство раннестюартовской монархии
- Название:Королевская семья и церемониальное пространство раннестюартовской монархии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-907030-68-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Федоров - Королевская семья и церемониальное пространство раннестюартовской монархии краткое содержание
Королевская семья и церемониальное пространство раннестюартовской монархии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобные противоречия, заложенные в представлениях о границах светской и духовной власти, с одной стороны, способствовали постепенной девальвации христианского учения о государстве с его трехуровневой системой властных отношений. С другой – на фоне сближения имперского и монархического дискурсов определяли закономерную концептуализацию идеи светского государства во всех ее мыслимых вариантах: универсалистском, национальном и, наконец, в интересующем нас – композитарном.
На исходе Средневековья представления об имперской власти по-прежнему ограничивались характером и объемом ее верховной юрисдикции. Используемые для этих целей определения и оценки, по большей части, восходили к наследию глоссаторов XI–XII века и, оставаясь явлением достаточно поздним, были лишены последовательной систематизации.
Исходными в определении объема имперской юрисдикции, как правило, считались две фразы Ульпиана (Dig. 1.IV.1; Dig. 1.III.31), обраставшие в последующих комментариях многочисленными смысловыми интерполяциями и уточнениями. Одна из них: «то, что решил принцепс, имеет силу закона», характеризуя роль императора в созидании потенциально возможной системы права, вызывала ассоциации с более поздним пониманием фундаментальной власти (сначала «imperium», а затем «auctoritas»). Другая: «принцепс свободен от соблюдения законов», конкретизируя его положение в уже действующей системе законодательства, увязывалась с обычно парным и в позднейших комментариях менее значительным по компетенциям определением «potestas».
Отталкиваясь от подобных ассоциаций средневековые глоссаторы (Плацентин и в особенности Аккурсий) с самого начала модифицируют свойственные римскому праву представления о верховной власти императора [25] Tierney B. «The Prince is not Bound by the Laws»: Accursius and the Origins of the Modern State // Comparative Studies in Society and History. 1963. Vol. 5. P. 378–400.
. Продолжая разделять характерное для римских юристов мнение о делегированной природе имперских полномочий, они минимизируют возможные условия их отзыва до чрезвычайных. Соглашаясь с римской идеей превосходства имперского суверенитета над властью территориальных государей, они, тем не менее, проявляют завидный интерес к ограничивающим его моделям. Наконец, не возражая против сакрализирующих имперскую власть концептов, они не без влияния теории двух мечей ограничивают природу светской власти вторичными по отношению к духовной признаками [26] Gilmore M. Argument from Roman Law in Political Thought, 1200–1600. Cambridge (Mass.), 1941. P. 34–56.
.
Модификация классических римских представлений о верховенстве императорской власти, представленная глоссаторами, на деле оборачивалась ее более или менее последовательной лимитацией. При этом соседствовавшая с глоссаторами школа канонического права, инкорпорируя взгляды римских юристов в рамки церковного учения о государстве, напротив, активно способствовала расширению представлений о верховенстве папства в духовных и светских вопросах. Оставаясь на протяжении XIIXIII веков практически автономной сферой, каноническое право активно использовало наследие глоссаторов, особенно в тех случаях, когда духовная власть последовательно противопоставлялась светским авторитетам. И в этом смысле вплоть до начала XIV века теория папского верховенства по своим интеллектуальным ресурсам во многом превосходила своего основного контрагента [27] Tierney B. The Continuity of Papal Political Thought in the 13th Century // Medieval Studies. 1963. Vol. 27. P. 227–248.
. Затем не без влияния известных политических процессов диалог между легистами и канонистами приобрел не только конструктивный оттенок, но и взаимообогащающий характер. Куда более разнообразные формулы и определения, используемые для характеристики всеобщего верховенства пап, стали активно осваиваться и для демонстрации соответствующих компетенций императорской власти [28] Muldoon J. «Extra ecclesiam non est imperium». Canonists and the Legitimacy of Secular Power // Studia Gratiana. 1966. Vol. 9. P. 551–580.
.
Начало разработки идей папского верховенства в каноническом праве было связано с поиском емких по смыслу, известных глоссаторам, но не используемых ими понятий. Очевидно, именно этим обстоятельством можно объяснить появление впоследствии широко известной триады определений «plenitudo potestatis» – «plena potestas» [29] В некоторых случаях использовался синоним «plena auctoritas». Так, например, Ординарная глосса Иоанна Тевтоника (ум. 1216) на Дикреты Грациана содержала специальный раздел «Plena auctoritate» ( Pennington K. Pope and Bishops: A Study of Papal Monarchy of 12th & 13th Centuries. Pennsylvania University Press, 1984. P. 59).
– «libera potestas». Первый элемент триады означал полноту власти римского папы в церковных вопросах, второй, чисто технически отличаясь от первого, мыслился как «полная власть», но с оттенком – власть делегированная. Наконец, третий элемент, оставаясь производным от второго, означал «власть неограниченную», т. е. состояние, наступавшее, очевидно, в ходе реализации делегированного властного мандата.
Понятие «plenitudo potestatis» уходило своими корнями в богословскую полемику раннего Средневековья, но со временем, утратив известную актуальность, вышло из оборота и оставалось невостребованным вплоть до расцвета канонического права в начале XII века. Первоначально его использование не ограничивалось определениями папского авторитета и распространялось на характеристику особого состояния архиепископа, который после получения палия обретал «полноту» своего должностного положения (plenitudo pontificalis officii). Начиная с конца XV века, исходная двойственность этого определения будет активно эксплуатироваться в полемике между императорами и территориальными государями [30] McCready W. Papal Plenitudo Potestatis and the Source of Temporal Power in Late Medieval Political Thought // Speculum. 1973. Vol. 48. P. 654–674.
.
Определение «plena potestas» было заимствовано из римского публичного права, где под ним разумелась определенная форма делегированных полномочий, которыми наделялись лицо или группа лиц, представляющих интересы клиента в тех или иных общественно значимых ситуациях. «Libera potestas» применялся для обозначения особых полномочий прокураторов и имперских наместников и, подобно, «plena potestas» характеризовал положение, при котором «избранник» не связывался в своих действиях определенными полномочиями по каждому конкретному вопросу [31] Pennington K. Pope and Bishops… P. 60–63.
.
Используемые в совокупности, эти определения обозначали различные аспекты папского верховенства, но только термин «plenitude potestatis» применялся для характеристики папской власти в целом. Первые попытки более или менее исчерпывающего объяснения значения этого термина были связаны с сопоставлением властного авторитета пап и епископов, причем в той мере и степени, в какой в позднейших версиях выстраивались схемы противопоставления императорских и королевских компетенций. Власть папы по определению являлась неограниченной и распространялась внутри границ вселенской церкви в то время, как власть епископов по умолчанию была ограниченна территорией диоцеза. В таких сопоставлениях канонисты признавали любое решение пап обязательным не только для всех стоящих ниже его иерархов, но и самой церкви в целом. Ответственность за такие решения лежала исключительно на совести верховных понтификов, при этом ответственность епископов оставалась неизменно субсидиарной. В отличие от епископов папа олицетворял собой критерий справедливости, оставаясь несменяемыми судьей всех и всея (iudex ordinaries omnium), его возвышали до уровня «живого права» (lex animata), называя верховным законодателем, сохраняющим все мыслимые законы у себя в груди, возможно, в сердце или подле него (omne ius habet in pectore suo) [32] Watt J. The Theory of Papal Monarchy in the 13th Century. Contribution of Canonists. Fordham University Press, 1965. P. 75–106.
.
Интервал:
Закладка:
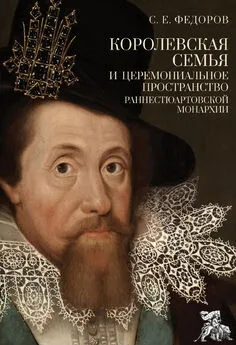


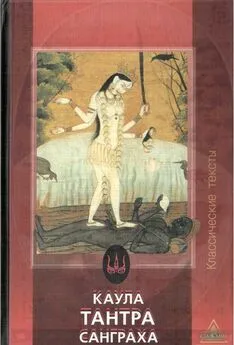

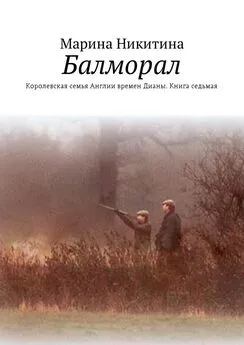

![AlmaZa - Королевская семья [СИ]](/books/1094607/almaza-korolevskaya-semya-si.webp)

