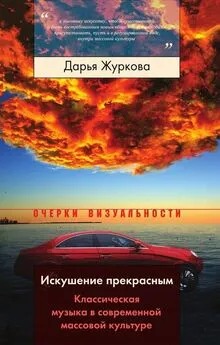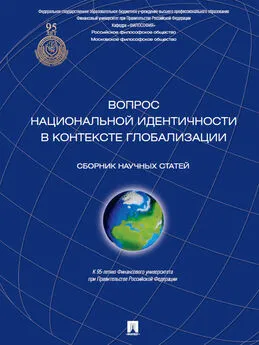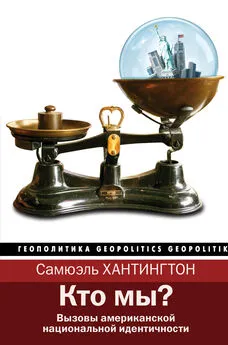Кирилл Королев - Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
- Название:Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449036865
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Королев - Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре краткое содержание
Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Помимо имен, бум переводной фантастики открыл для русской культуры новое направление (точнее, забегая немного вперед, новый культурный жанр) – фэнтези. Здесь, как логично было ожидать, все началось с классики – с «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина и «Хроник Нарнии» Клайва С. Льюиса, но совсем скоро на читателя хлынул целый «водопад»: Роберт Говард, уже упомянутые А. Нортон и Р. Желязны, Майкл Муркок, Фриц Лейбер, Пол Андерсон, «меч и магия», колдуны, эльфы, гномы, драконы, рыцари и прекрасные дамы, варвары и прекрасные дамы, борьба Света и Тьмы, вселенские противостояния Добра и Зла, и так далее, и тому подобное. Пользуясь несовершенством государственного законодательства – к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений Россия частично присоединилась лишь в 1995 году (полностью – в 2012 году) 1 1 Подробнее см.: Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Авторское право и смежные права: учебник. М.: Проспект, 2009. С. 245—312; Собрание законодательства РФ, 14.11.1994, №29, ст. 3046; Будылин С . Ратифицировала ли Россия Бернскую конвенцию? // Портал «Закон.ру», URL: http://zakon.ru/discussion/2013/9/18/ratificirovala_li_rossiya_bernskuyu_konvenciyu . Дата доступа 30 августа 2017 г.
, – издательства стремились максимально насытить рынок «доконвенционными», то есть увидевшими свет до мая 1973 г., произведениями этого нового культурного жанра, который быстро приобретал популярность у публики; когда же «доконвенция» была исчерпана, стали приобретаться права на издание на русском языке более поздних текстов – к примеру, произведений Роберта Джордана, Люциуса Шепарда и Мэрион З. Брэдли. Снова забегая чуть вперед, отмечу, что итогом такой издательской политики, причем не только в России, но и в масштабах, если можно так выразиться, евроатлантической масс-культурной парадигмы, оказалась ситуация, когда на фоне безоговорочного доминирования фэнтези добротные, но совершенно «типовые», в ретроспективе 1950-х – 1960-х годов, современные научно-фантастические романы – например, «Марсианин» Энди Вейра (2011, русский перевод – 2014) – воспринимаются как культурное событие 2 2 Роман удостоен мемориальной премии Джона. Ф. Кэмпбелла, немецкой Фантастической премии и японской премии «Сэйун», а в России признан книгой 2014 года по опросу журнала «Мир фантастики». См.: Страница романа «Марсианин» на сайте «Лаборатория фантастики», URL: http://www.fantlab.ru/work523215.http://www.fantlab.ru/work523215 . Дата доступа 30 августа 2017 г.
.
Зарубежные фантастика и фэнтези господствовали на российском книжном рынке примерно до середины 1990-х годов – а затем картина почти мгновенно изменилась. Сразу несколько издательств, верно оценив тенденции развития и рыночный потенциал «своей» массовой литературы, приступили к выпуску книжных серий, составленных из произведений отечественных авторов; многие из этих авторов работали в русле традиционной НФ или писали социальную фантастику, ориентируясь преимущественно на творчество братьев Стругацких, но появились и первые фэнтези-тексты – «Ветры Империи» Сергея Иванова, «Лабиринты Ехо» Макса Фрая, «Многорукий бог далайна» Святослава Логинова. А внутри общего потока исподволь формировалось самостоятельное направление, исследованию которого посвящена отдельная часть настоящей книги, – славянское фэнтези 3 3 Учитывая тенденции развития русского языка, который стремится привести к среднему роду все заимствованные несклоняемые существительные, логично предположить, что окончательная адаптация «чуждого» слова «фэнтези» будет означать однозначное присвоение ему категории среднего рода. И потому на страницах этой книги слово «фэнтези» употребляется исключительно в среднем роде.
: прецедентные тексты последнего («Волкодав» Марии Семеновой и «Там, где нас нет» Михаила Успенского) были опубликованы одновременно – независимо друг от друга – в 1995 году.
Хорошо помню длинную читательскую очередь за автографами к М. Семеновой на «ярмарке писателей» в петербургском ДК им. Крупской в рамках Конгресса фантастов России в 1996 году – и недоумение своего коллеги-издателя, который продолжал сомневаться в стабильности спроса на отечественную массовую литературу и в конкурентоспособности этой литературы относительно западных аналогов; впрочем, сомнения не помешали ему сформировать сразу несколько собственных серий современной российской фантастики, и почти все эти серии впоследствии оставили заметный след на рынке. Читательский ажиотаж вокруг «Волкодава» и продолжений этого романа побудил петербургское издательство «Азбука» продолжить публикацию произведений условно-славянской тематики в составе серии «Русское fantasy»; другие издательства отдельных серий подобной тематики не создавали, однако также публиковали авторские тексты, имевшие прямое или опосредованное отношение к славянскому фэнтези. Далеко не все эти тексты удостаивались теплого приема у публики, далеко не все получали ту рецепцию, которая позволяла бы рассуждать о коммерческой и идеологической успешности славянского фэнтези как направления в целом, но в издательской среде, а также в фэндоме – неформальном сообществе любителей фантастики – утвердилось мнение, что это «самобытное» фэнтези следует воспринимать и оценивать по особым меркам, неприменимым к культурному жанру как таковому (а еще постепенно становилось понятным, что это культурное явление – очередная манифестация славянского метасюжета в отечественной культуре; подробнее об этом далее). Для причисления конкретного текста к славянскому фэнтези определяющим был не сюжет, а наличие в произведении национальных маркеров – условно-славянских «декораций», от лингвистической стилизации, топонимики и ономастики до присутствия среди действующих лиц знакомых с детства и по школьной программе, равно как и по советскому сказочному кинематографу, сказочных, былинных, исторических и псевдоисторических персонажей; такие маркеры однозначно позиционировали художественные произведения в глазах издателей, читателей, критиков и публицистов как «славянские», их присутствие во многих фэнтезийных текстах и обеспечило, собственно, возникновение широко распространенного представления о существовании отдельного тематического суб-поля российской массовой литературы 4 4 То же самое можно сказать о многих других тематических направлениях фантастики – например, о «космической» НФ: звездолеты, другие планеты и галактики, путешествия в космосе, встречи с инопланетянами и т. д. – несомненные маркеры данного суб-поля. Но «космические» маркеры являются, как правило, сюжетообразующими, тогда как маркеры славянского фэнтези нередко сугубо условны и призваны лишь «создавать атмосферу» (см. примеры далее в тексте).
.
Интервал:
Закладка: