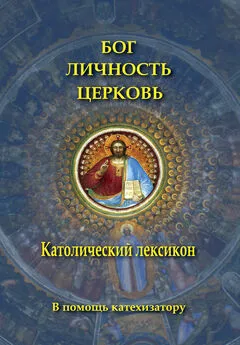Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе
- Название:Вера и личность в меняющемся обществе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1312-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе краткое содержание
Вера и личность в меняющемся обществе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Развитие модерной личности в России представлялось неочевидным и из‐за дефицитов, отсутствия маркеров, считавшихся обязательными для Нового времени: унаследованной от Античности и возрожденной в Ренессансе традиции секулярной и правовой культуры, юридических гарантий личности, развитой культуры просвещенной общественности. Факторы развития личности представали в этом смысле только как lux ex Occident. При изучении конкретного автобиографического материала в России внешние культурные влияния оказывались на первом плане, тогда как религиозный контекст, будь то прямые упоминания веры или религиозная традиция, в которой воспитывался автор, скорее игнорировались [12] Engelstein. Personal testimony. Р. 5–6. Классический анализ влияния Просвещения на культуру личности Нового времени: Seigel 2005.
.
Однако множатся аргументы в пользу того, что православная традиция в России предлагала альтернативы для формирования модерной личности. С догматической стороны, в сотериологии и антропологии: поскольку православие в меньшей степени, чем западное христианство, восприняло учение Блаженного Августина о невозможности человеку спастись делами, здесь в меньшей степени было распространено и пессимистическое недоверие к способностям человека формировать свою личность, распространенное до Ренессанса. На институциональном, структурном уровне одним из примеров того, как православие влияло на формирование личности, может служить заметная с 1840‐х годов тенденция к развитию социально-пастырского движения в приходах [13] Манчестер 2015, 75–86.
.
Становится очевидной недостаточность источниковой базы по религиозной автобиографике в России для того, чтобы делать сколько-нибудь убедительные выводы. Отчасти это проблема объективная: сохранность личных фондов духовенства синодального периода, особенно приходского, сельского духовенства, невысока даже в сравнении с дворянством. Но и имевшиеся свидетельства [14] Зайончковский 1976–1989.
вводились в научный оборот крайне редко. Не только по идеологическим соображениям в эпоху атеистического государства, но и потому, что для светских исследователей они оставались герметичными текстами, которые требовали особого ключа для расшифровки и анализа. За последние десятилетия перечень такого рода источников существенно расширился [15] Не только тексты духовенства, но и «духовной автобиографики» в широком смысле, см. например, Серов 1994; Карпинский 1995; Лямина, Самовер 1999; Хондзинский 2004; Федотова 2005 и др.
, и в настоящем сборнике ряд статей основан на неопубликованных материалах.
По прагматическим соображениям сборник ограничивается «официальным» православием, главенствующим в дореволюционной России. Но без жестких рамок, позволяя себе экскурсы в старообрядчество и сравнения с инославными конфессиями.
Интерес к истории синодальной церкви в светской исторической науке возродился несколько десятилетий назад с изучения социальных характеристик и структур церковной жизни и анализа массовых источников [16] Freeze 1977; Freeze 1983.
. Исследования в русле социально-культурной истории по-прежнему плодотворны и открывают множество интересных перспектив. Недавние работы в большой степени опираются на личные свидетельства в широком смысле, особенно судебные показания [17] Лавров 2000; Смилянская 2003.
. В архивные фонды государственных и церковных институтов силой вещей попадали прежде всего именно такие документы, которые свидетельствуют об отклонениях от религиозной нормы. При всей познавательной ценности они не могут дать полное представление о самой норме – и в большой степени это как раз прерогатива автобиографики [18] Ср. Кириченко 2002 о дворянском благочестии.
.
Проблемой при ее изучении может стать накладываемый исследователями имперского периода растр социальных структур. Исключительное внимание исследователей этой эпохи долгое время привлекали сословия, в нашем случае духовное сословие с его специфической культурой и самосознанием [19] Сб. Провинциальное духовенство дореволюционной России (Тверь, 2005, 2006 и 2008), работы А. В. Матисона, Т. Г. Леонтьевой, Н. В. Беловой и др.
. Учитывая, как долго духовенство было изгнано со страниц отечественных научных трудов, это неудивительно. Однако следует отличать духовную автобиографику от автобиографики духовенства. Интерес к последней предполагает реконструкцию уникальной субкультуры синодального периода, историю закрытого сословия «бурсаков» и «левитов». Как правило, ограниченной временными и территориальными рамками прихода, города, епархии или региона, нередко тяготеющей к истории повседневности. Личные свидетельства используются здесь в качестве «кладезя фактов», отсутствующих в массовых и официальных источниках.
Как дань общественным реалиям рамки сословий организуют и многие статьи в настоящем сборнике (ср. Феофанов и Запальский о дворянстве, Ульянова о купцах, Херцберг о крестьянах, Агеева, Лукашевич, Манчестер и Цапина о духовенстве). Социальные рамки позволяют расширить хронологические и проследить развитие личного самосознания в России в longue durée. Однако при этом важно помнить, что феномен модерной личности не ограничен рамками социальных групп, а религия в синодальный/имперский период продолжала играть роль культурной системы, объединявшей людей помимо их правового или профессионального статуса [20] Впервые о мирянах в этой перспективе: Shevcov 2004.
. Закономерно поэтому, что в других статьях сословный фокус отсутствует или они сфокусированы вместо этого на конкретном случае/личности (Сдвижков, Сочива, Маркер, Колман, Беглов, Дальке).
Профиль и плоды исследований личных свидетельств зависят не от социальной принадлежности, а от уровня и культуры рефлексии источника. Не сказать, чтобы между первым и вторым не было никакой корреляции, но и преувеличивать ее не стоит. В противном случае «мыслящая личность» в России ограничится привычной схемой «двор – дворянство – интеллигенция». Так что идеальный объект исследования в нашем случае – «люди веры» (religious persons) [21] Янке . Каритас Пиркхаймер. С. 149–150.
, социальные границы между которыми имеют такой же гибкий и ситуативный статус, как разделения в реальном пространстве православного храма.
Плавающий фокус стоит задавать не только для сословных, но и для временных рамок. Это позволяет обратить внимание на постепенность формирования культуры модерной личности от ее начальных форм – осознания себя отдельным индивидом – до текстов с самоанализом, созданных теми, кто стремится сам сформировать свое Я, создать себя. Чтобы отразить эту динамику и не оставлять вне фокуса исследований разные формы автобиографического нарратива, в заглавии говорится об «автобиографике» как практике того, что, собственно, обозначает термин: «самоописание своей жизни» (ауто-био-графе) [22] Lynch 2012, 12.
. В круг источников наряду с поденными записками, автобиографиями (Херцберг, Запальский), мемуарами, дневниками (Колман, Лукашевич) и письмами могут включаться хроники (Агеева), календари, некрологи (Манчестер), духовные завещания [23] См. введение в: Козлова, Прокофьева 2015, 22–64; Paperno 2004, 562–563.
.
Интервал:
Закладка:

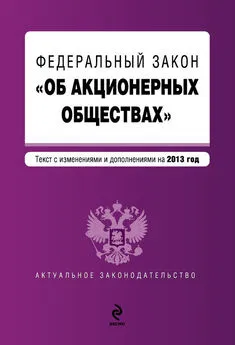






![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)