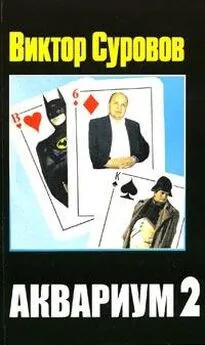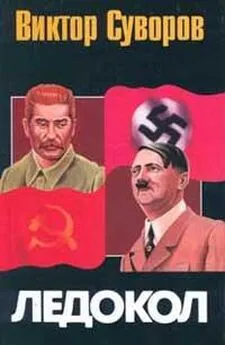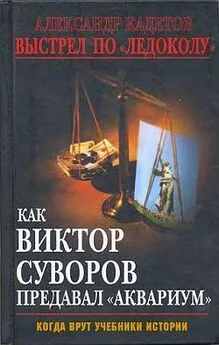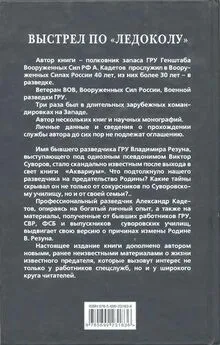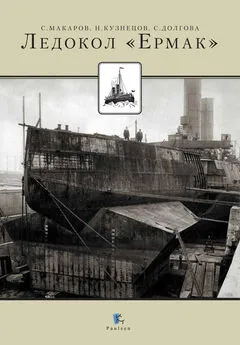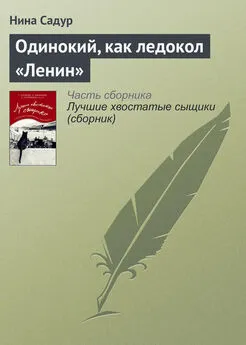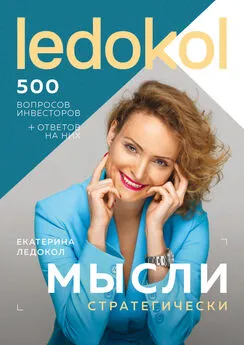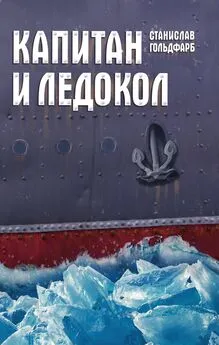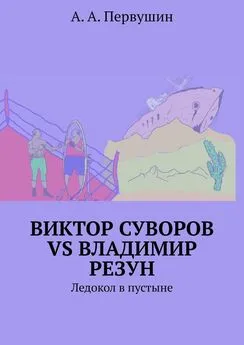Виктор Суровов - Ледокол 2
- Название:Ледокол 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современная школа
- Год:2008
- ISBN:978-985-513-328-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Суровов - Ледокол 2 краткое содержание
При прочтении «нефантастической» книги «Ледокол» В. Суворова (В. Резуна), возникает множество маленьких вопросов. Понемногу они группируются в два больших. Первый – так кто же все-таки начал вторую мировую войну? Второй – почему автор «Ледокола», мягко говоря, дезинформирует читателя? Ответ на первый вопрос можно найти в заключении предлагаемой вашему вниманию книги. Ответом на второй – является вся книга. «Ледокол-2» возник на основе публикаций, посвященных первому «Ледоколу», а также ряда фактов и документов, относящихся к началу войны, опубликованных в последнее время. Книга адресована поклонникам «Виктора Суворова», а также всем интересующимся историей (и предысторией) Второй мировой войны.
Ледокол 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Командарм 1-й конной С. М. Буденный вспоминал:
«Из оперативных сводок Западного фронта мы видели, что польские войска, отступая, не несут больших потерь. Создавалось впечатление, что перед армиями Западного фронта противник отходит, сохраняя силы для решающих сражений… Мне думается, что на М. Н. Тухачевского в значительной степени влиял чрезмерный оптимизм члена РВС Западного фронта Смилги и начальника штаба фронта Шварца. Первый из них убеждал, что участь Варшавы уже предрешена, а второй представлял … главному, а следовательно, и командующему фронтом ошибочные сведения о превосходстве сил Западного фронта над противником в полтора раза».
Впрочем, в поведении Троцкого в те дни действительно было очень много странного, что могло бы ввести в заблуждение «красного Бонапарта». Льву Давидовичу казалось невыполнимым [131] принудить крестьянскую массу, составлявшую подавляющее большинство красноармейцев, свергать «чужую» польскую буржуазию в Варшаве.
Он прекрасно знал, что все больше мужиков уходит в леса, чтобы бороться с выгребающими последнее продотрядами и еще в феврале 1920 года безуспешно предлагал ЦК заменить продразверстку твердым налогом. Как раз в дни решающих боев под Варшавой, 15 августа, началось самое крупное Тамбовское восстание. В этих условиях даже Троцкому поход на Польшу и дальше, на Запад, представлялся слишком рискованным. Свою позицию в те дни он охарактеризовал в мемуарах следующим образом:
«Мы изо всех сил стремились к миру, хотя бы ценою крупнейших уступок. Может быть, больше всех этой войны не хотел я, так как слишком ясно представлял себе, как трудно нам будет вести ее после трех лет непрерывной гражданской войны…»
Учитывая вышесказанное, крайне странно, что в момент наибольших успехов Красной Армии за решение «отказаться совсем» от наступления на Варшаву, остановиться на Западном Буге и добиваться заключения мира выступал один только Троцкий. (Именно Троцкий, а не Сталин.)
Впрочем, не менее странным, чем поведение Троцкого, было в дни «похода за Вислу» поведение другого «посвященного» – большевика К. Радека, который, по словам К. Малапарте (Н. Зуккерта), был «единственным человеком, не питавшим иллюзий насчет возможной революции в Польше».
Ленин в мечте о советской Польше, а там, гляди, и советской Германии совершил одну серьезную [132] оплошность и одну серьезную глупость. Он полагал, что при вторжении Красной Армии на территорию Польши у польских рабочих взыграет чувство классовой солидарности, а у тех вдруг сыграло совсем иное чувство – национальное. А вот глупость его состояла в том, что он решил с ходу внедрить в Польше российскую «модель» комбедов. В районах, «освобожденных» Красной Армией, помещичьи земли передавались не крестьянам, а батрацким комитетам. Совершенно они не учли и роли католической церкви в жизни поляков. Все это в совокупности во многом и предопределило исход всей кампании {8}.
А доблестная польская армия продолжала драпать без оглядки, бросая все, что так любезно предоставили ей союзники. Впереди отступавших мчалась доблестная польская кавалерия (лучшая в Европе). Польские жолнеры убегали так быстро, что плохо обутая, одетая и зачастую вооруженная одними винтовками без патронов (иногда винтовка со штыком приходилась на пятерых красноармейцев), т. к. обозы безнадежно отставали, красноармейская толпа, в которую превратилось воинство Тухачевского, не успевала их догонять.
14 августа 1920 г. Пилсудский ввел заградительные отряды с пулеметами, которые расстреливали отступавшие польские части. Тогда же, в августе Антанта спешно, через Румынию, направила полякам около 600 орудий, которые были немедленно введены в бой. [133]
Прорвав оборону поляков, Тухачевский, совершенно необоснованно возомнивший себя Наполеоном, совершил глубокий рейд в направлении Варшавы, оторвался от своих тылов, потерял управление войсками и в результате потерпел сокрушительное поражение. 4-я армия и две дивизии 15-й армии вынуждены были перейти границу Восточной Пруссии, где их интернировали, остальные части и соединения беспорядочно отступали, а сам Тухачевский едва избежал плена.
«Мировую революцию» постигла жесткая катастрофа. После «чуда на Висле» разбитые Вейганом войска Тухачевского побежали назад еще быстрее, чем от них убегали «пилсудчики». Впереди отступавших неслась конница Буденного. Еще недавно присылавшего телеграмму со словами «обнимаю героя Буденного» Троцкого за провал наступления буденновцы «достать», конечно, не могли, но его «земляков»… Недаром в 1920 году [134] главный раввин Москвы Яков Мазе скажет: «Троцкие делают революцию, а Бронштейны платят по счетам». В результате: «… по Полонному, Любару, Прилукам, Аннополю, Березову, Таращам шестая девизия Апанасенки прошла такими еврейшими погромами, каких еще свет не видывал».
«Бонапартизм» Тухачевского имел самые катастрофические последствия не только для «мировой революции», но и для Советской России.
После подписания 18.03.1921 г. мирного договора с Польшей под ее национальным и религиозным гнетом очутилось население Западной Белоруссии и Западной Украины. Россия обязалась выплатить своей бывшей провинции контрибуцию в 10 млн. рублей золотом, которую личный казначей Ленина Ганецкий (Фюрстенберг) доставил в натуральном виде – царскими бриллиантами, жемчугом, золотом, ювелирными изделиями.
17 августа 1920 г. в Минске начались советско-польские переговоры, а Пилсудский втайне от сейма подготовил и произвел захват Вильнюса и Виленской области.
9 октября 1920 года войска генерала Желиговского уже вторглись в пределы Литвы и захватили Вильно и Виленскую область, провозгласив там «срединную Литву», присоединили ее к Польше на правах автономной провинции.
Все попытки Лиги Наций возвратить Литве оккупированную Польшей территорию успеха не имели, и тем более пустым звуком оказался протест Советского правительства, домогавшегося в это время мира с Польшей. За день до подписания Рижского мирного договора все польские дипломатические миссии за границей получили характерные [135] указания:
«Следует и дальше поддерживать враждебные Советской России элементы, как русские, так и украинские, белорусские и кавказские. Наши интересы на востоке не кончаются по линии наших границ… Нам небезразлична судьба земель исторической Речи Посполитой, отделенных от нас будущим Рижским договором».
18 марта 1921 г. договор был подписан, и Польша превратилась в почти что империю, в которой поляки составляли лишь 65% от общей численности населения.
Между прочим, Польша в это время имела одну из самых больших армий в Европе: 700 тыс. человек при 14 тыс. офицеров. Французская армия насчитывала 660 тыс. человек, а Германия, согласно Версальскому договору, сократила свою армию до 100 тыс. человек. Теперь с Польшей приходилось считаться всем, особенно если учесть ее самые тесные отношения с Францией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: