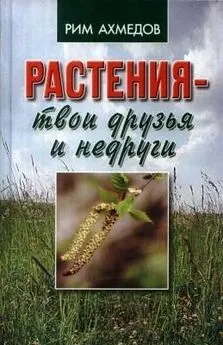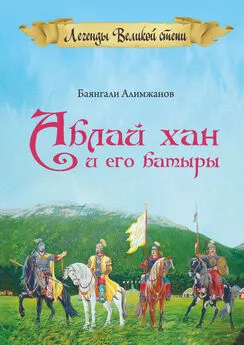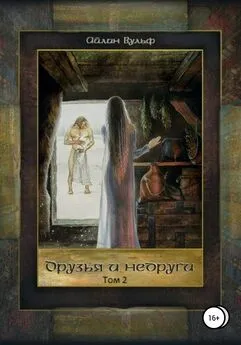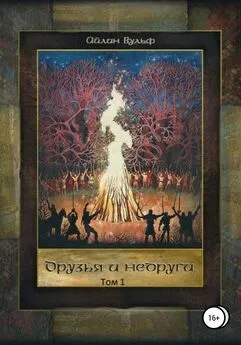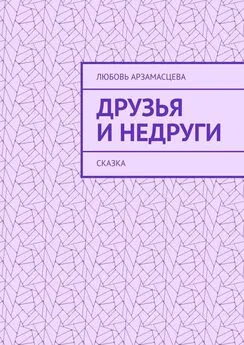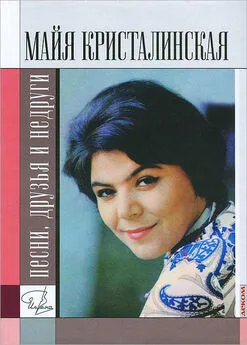Лев Гумилёв - Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи
- Название:Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭКОПРОС
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-88621-005-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Гумилёв - Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи краткое содержание
В настоящий сборник включены работы Л. Н. Гумилева, посвященные одной из наиболее острых исторических проблем – проблеме предвзятого отношения к народам Великой степи, о которых сложилось представление как об изначально диких, жестоких и отсталых. В книге раскрываются исторические корни этого мифа, названного Л. Н. Гумилевым «черной легендой», развенчиваются преувеличенные представления об ужасах татаро-монгольского ига на Руси, показаны истинные взаимоотношения Руси и Орды и их последствия. Объективному читателю станут понятны и истоки европейской русофобии, выражающейся фразой: «поскреби русского – и найдешь татарина».
Завершает книгу панорама мнений, высказанных по обсуждаемому «больному» вопросу историками и мыслителями разных, в том числе и прямо противоположных друг другу направлений.
Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В литературе уже не раз указывалось на то, что формула Филофея не имела ничего общего с националистическим посягательством на завладение миром; связанная с ожиданием конца света, она была внушена иноку заботою о духовном состоянии России и носила определенно эсхатологический характер. Но в том-то и дело, что в душе и сознании Волоцкого эта формула переродилась, приняв явно конфессионалистически-шовинистический и национально-агрессивный характер [116]. Проповеди насильнического подавления чужих верований у Филофея нет, а Волоцкий это подавление защищает.
Для Иосифа неоспоримо, что православный царь получает свою власть непосредственно от Бога, что он только по своей природе человекоподобен, а по своему призванию и духовному бытию богоподобен. Главною задачею православного царя, по мнению Иосифа, является защита чистоты учения и подавление ересей. Причем допускаются даже инквизиционные приемы. Обыкновенных забот о хозяйственно-жизненном устроении своих подданных для православного царя мало. Необходимы еще духовные наставления для спасения их душ. Для достижения этой высокой цели царю вверяется полная власть над жизнью и смертью своих подданных. Этою властью Грозный пользовался с полной уверенностью в своей правоте и не без богословской изощренности защищал свое право ь переписке с беглым князем Курбским.
Всего сказанного о характере монгольской оккупации и о возникновении образа Московского царства в православном монастыре, думается, довольно, чтобы не сомневаться в том, что и Московская Русь, как и Киевская, представляет собою не Азию и даже не Евразию, а своеобразную Восточную Европу…» (стр. 313–316).
Г. В. Вернадский
Два подвига Св. Александра Невского [117]
Во времена императора Николая Павловича в Париже напечатана получившая громкую известность книжка о России – «La Russie en 1839» маркиза Кюстина. Эта книжка представляет собою – в форме путевых впечатлений – озлобленный памфлет, направленный против России, Русской Церкви, Русского государства, Русского народа.
Книга Кюстина – одно из звеньев большой цепи европейского русофобства, одно из проявлений ненависти Европы к России и страха Европы перед Россией [118].
Кюстин не ограничивается нападками на современную ему императорскую Россию, он стремится при случае развенчать и русское прошлое, подорвать исторические основы русского бытия. В числе нападок Кюстина на русское прошлое обращают на себя внимание иронические слова, посвященные памяти святого и благоверного князя Александра Невского.
Кюстин говорит: «Александр Невский – образец осторожности; но он не был мучеником ни за веру, ни за благородные чувства. Национальная церковь канонизировала этого государя, более мудрого, чем героического. Это – Улисс среди святых» [119].
Так, в XIX в. западноевропейский писатель-латинянин стремился развенчать русского святого князя, вся деятельность которого была направлена на борьбу с Западом и латинством. Мечом нападали на Александра европейцы XIII в.; литературного насмешкою заменил меч европеец XIX в.; впрочем, и это «бескровное» орудие было, как оказалось, лишь подготовкою к мечу (ведь через несколько лет за книгою Кюстина последовала Крымская война и Севастополь!).
Высмеиваемая Кюстином «мудрость» и «осторожность» Александра Невского насмешке, казалось бы, не подлежат: отмеченные Кюстином качества соединялись в личности Александра с самым подлинным героизмом и подчас безрассудною смелостью. Александр доказал это своею борьбою против Запада. П о д в и г б р а н и Александр совершил на берегах Невы и на льду Чудского озера; печать этого подвига он возложил мечом на лицо Биргера. Но перед силою Востока Александр действительно счел нужным себя смирить. Мудрость Александра, по слову летописца, была от Бога; его осторожность была на самом деле п о д в и г о м с м и р е н и я.
XIII век представлял собою знаменательную эпоху в русской истории. В предшествующие века сложилась и ярким цветом зацвела русская культура – как своеобразное сочетание и пышное возрастание на славянской почве богатых ростков православной Византии, Востока степных кочевников, Севера варягов-викингов.
Киевская Русь [120]поражает блеском и роскошью жизни материальной и духовной, расцветом искусства, науки, поэзии. Складывается и мощное национальное самосознание (епископ Илларион и летописец Никон Великий – все равно, одно ли это лицо под двумя именами или два лица с одинаковым горением и одинаковым устремлением мысли и чувства).
К XIII в. Русь стоит перед грозными испытаниями. Само ее существование – ее своеобразие и самобытность – поставлено на карту. Развернувшаяся на великой восточно-европейской равнине как особый культурный мир между Европой и Азией, Русь в XIII в. попадает в тиски, так как подвергается грозному нападению обеих сторон – латинской Европы и монгольской Азии.
В 1206 г. в сердце Азии произошло событие, во многом определившее дальнейшие судьбы истории. В Делигун-Булак, на истоках Орхона, курултай (собрание старейшин) монгольских народов провозгласил местного завоевателя окрестных племен, воинствующего князька Темучина самодержавцем (Чингисханом). Началось монгольское движение на Китай, Туркестан, Малую Азию, Европу. Меньше чем через двадцать лет после того передовые кавалерийские отряды Чингисхана уже нанесли русским князьям страшное поражение на Калке.
Почти одновременно – всего за два года до Делигун-Булакского курултая – не менее значительное событие произошло и в Европе: в 1204 г. западноевропейские крестоносцы взяли приступом Царьград и страшно разграбили его, православное Византийское царство было ниспровергнуто, на месте его основана Латинская империя.
Вслед за Византией, казалось, пришел черед и Руси. Наступление началось по всему фронту. Венгрия и Польша бросились на Галицию и Волынь; немецкие крестоносцы утвердились в начале XIII в. в Риге (Ливонский орден) и Пруссии (Тевтонский орден) и оттуда повели наступление на Псков и Новгород; наконец, шведы двинулись на Русь через Финляндию; мечом и огнем немцы и шведы обращали в латинство как язычников – литовцев, эстов и финнов, – так и православных – русских. Годы высшего напряжения двусторонней опасности для Руси – конец 1230-х – 1240 г. Зима 1237/38 г. – первый татарский погром Руси (преимущественно северо-восточной); в 1240 г. татарами взят Киев (6 декабря); в том же году, побуждаемый папою на крестовый поход против «неверных», шведский правитель и полководец Биргер высадился на берегах Невы (июль).
Русь могла погибнуть между двух огней в героической борьбе; но устоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта она не могла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: