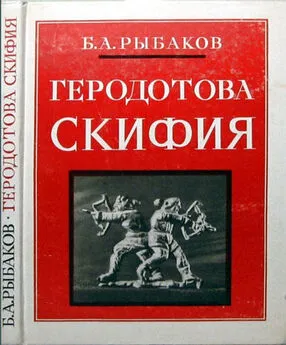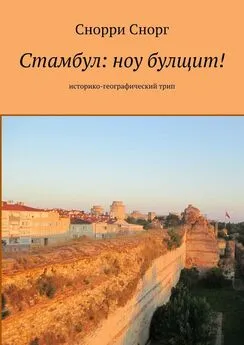Лев Гумилев - Открытие Хазарии (историко-географический этюд)
- Название:Открытие Хазарии (историко-географический этюд)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АСТ
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-05146
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Гумилев - Открытие Хазарии (историко-географический этюд) краткое содержание
Мысли и чувства автора, возникшие во время пятилетнего путешествия по Хазарии, как в пространстве, так и во времени, или биография научной идеи. Написана в 1965 г. н. э., или в 1000 г. от падения Хазарского каганата, и посвящена моему дорогому учителю и другу Михаилу Илларионовичу Артамонову.
Открытие Хазарии (историко-географический этюд) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гот погиб из-за неосведомленности в новинках военной техники. Он ожидал встретить врага с мечом, а не с саблей. Тогда бы панцирь предохранил его, он получил бы легкую рану и возможность второго удара, который при сближении стал бы для Бахрама последним.
Конечно, тесный строй копьеносцев был по-прежнему неуязвим для всадников с саблями, но те не принимали боя, а расстреливали скученного противника из луков; когда же копьеносцы рассыпались, чтобы не представлять слишком легкую цель для стрел противника, сабельщики вынуждали их к поединкам и имели все шансы на победу.
Битва при Балярате окончилась победой византийцев лишь потому, что они прижали персов к отвесными утесам, лишили свободы маневрирования и задавили численным перевесом — 60 тыс. против 40 тыс. Но в степях всадники, вооруженные саблями и луками, не имели себе равных вплоть до изобретения огнестрельного оружия. Несмотря на то что европейские рыцари во время крестовых походов немало пострадали от турецких и арабских сабель, они не сумели перестроить свою привычную военную выучку и продолжали сражаться мечами, с течением времени превратившимися в кирасирские палаши. Искусство владения саблей требовало совсем иной тренировки и других психофизических качеств бойца и даже лошади. Тяжелые европейские кони, на которых рыцари бросались в сокрушительные, но, как правило, неудачные атаки, не годились для сабленосца, основными качествами которого были поворотливость и быстрота. Только Наполеон попытался переучить своих кавалеристов, взяв за образец тактику египетских мамлюков, но реформа запоздала и не спасла французскую кавалерию от русских гусарских сабель и казацких шашек, лишь немного усовершенствованных сравнительно с той, которая лежала в подбое могилы барсила. Трудно описать нашу радость при находке пращура русского оружия, ныне занимающего почетное место в коллекциях Эрмитажа.
Сарматы населяли приволжские степи в первые века нашей эры, и только гунны в IV в. оттеснили их на запад. Могли ли с ними столкнуться хазары? — вот вопрос, на который можно ответить двояко. Нет, потому что хазары — потомки хуннских воинов и сарматских женщин; да, потому что такой большой народ, как хазары, не мог появиться за одно поколение и должен был некоторое время сосуществовать с «чистыми» сарматами. Оба ответа не могут считаться достаточными, и только археология в состоянии установить: жили ли сарматы в дельте Волги на тех самых местах, где мы нашли хазар, или оба народа сосуществовали в III–IV вв. и разделили между собою прикаспийские земли, причем сарматы взяли степь, а хазары — дельту.
Вспомним, что в I–II вв. Волга была еще маловодна, но в то время, когда гунны теснили сарматов на запад (III–IV вв.), разлилась широким потоком, а степи превратились в пустыни. До этого времени Волга текла по нескольким руслам среди равнин и бугров, как ныне текут Хурдун и Кигач. Если так, то сарматам незачем было делать выбор между двумя ландшафтами, ибо в их время существовал только один. Следовательно, мы должны были искать сарматские могилы там же, где находили хазарские, только считая их более древними. И наши поиски увенчались успехом. Первая находка была сделана на бугре Степана Разина. На глубине 0,75 м в полуметре от тюркютского захоронения раскрылось горло сероглинного сарматского сосуда. Затем на бугре Билинга нам посчастливилось наткнуться на погребение богатой сарматки. Ее широкая одежда была украшена нашитыми на нее бусами и заколота фигурными бронзовыми фибулами, застежками, сконструированными по принципу французской булавки. На груди у нее лежало бронзовое зеркало. Разумеется, одежда истлела, но бусы и фибулы показывали, насколько она была широка и, вероятно, удобна.
Итак, сарматы населяли дельту в первые века нашей эры. Так мы нашли предков хазар.
Хазария и географический детерминизм
Следя за ходом нашей мысли, подсказанной наблюдениями во время путешествий по пустыням и дебрям, читатель может подумать, что роль географического фактора, оттененная нами, близка к концепции географического детерминизма, наиболее четко сформулированного Монтескье в книге «Дух законов». [98, рр. 290–293] 98 Montesquieu Ch. Esprit des lots. Paris, 1858.
Но достаточно привести примеры истолкования Монтескье значения явлений природы человеческого общества, чтобы убедиться, насколько разнятся его и наши подходы к теме и выводы.
Монтескье утверждает, что жаркий климат расслабляет душу и тело, а холодный делает человека крепким и энергичным. Южане сильно ощущают боль, а северяне отличаются малой чувствительностью. В восточных странах жаркий климат порождает физическую и умственную лень, вследствие чего нравы, обычаи и законы там не меняются. Народы жарких стран не обладают мужеством и почти всегда бывают порабощены северными, мужественными народами. «Бесплодие почвы делает людей искусными в мастерстве, трезвыми, закаленными в труде, мужественными, способными к войне, так как им надо добывать себе то, в чем им земля отказывает; плодородие страны вместе с зажиточностью дает жителям изнеженность и любовь к сохранению жизни». [98, р. 234] 98 Montesquieu Ch. Esprit des lots. Paris, 1858.
На равнинах, где трудно защищать свободу, устанавливается деспотическое правление, а горцы могут себя отстоять, потому что вести завоевания на пересеченной местности трудно. К этим и подобным утверждениям сводится теория географического детерминизма, подчиненная рационалистической идее всеобщей закономерности, куда входят и явления общественной жизни. [18, с. 99] 18 Волгин В. П. Социальные и политические идеи во Франции перед революцией (1748–1789). М., 1940.
Гораздо важнее принципиальная сторона дела. Все сторонники концепции географического детерминизма предполагают наличие прямого влияния природы на психику людей и общественное развитие. С нашей же точки зрения, такого влияния нет. Общественное развитие — форма спонтанного движения по спирали, и тем самым никак не может быть связана с экзогенными явлениями, в том числе изменениями климата и ландшафта. Психика людей — тоже явление особого порядка, зависящее от физиологии, которая во время рождения географического детерминизма была наукой неразвитой, и значение ее не учитывалось. По нашему мнению, роль природы сказывается на этнографических особенностях и ареалах распространения народов, но не непосредственно, а через хозяйство, т. е. основу экономической жизни. Природа не имеет определенного влияния на жизнь людей. Ландшафт не определял род занятий какого-либо народа. Там, где привычные занятия были невозможны, представители этого народа предпочитали не селиться. Поэтому жители лесов редко осваивали полупустыни, а предпочитали речные долины, а степняки, даже овладев лесными массивами, выбирают для жительства открытые места. Угры-самодийцы и тюрки-якуты заселяли тундру и луга в долине Лены, оставив тайгу лесовикам — хантам и эвенкам. Исключений из этого правила немного, и они всегда могут быть объяснены событиями политической истории. Разница между нашим подходом и географическим детерминизмом очевидна. Оба метода исключают один другой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: