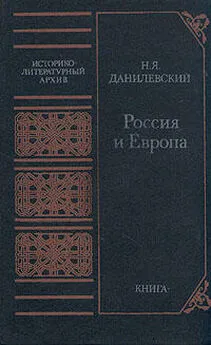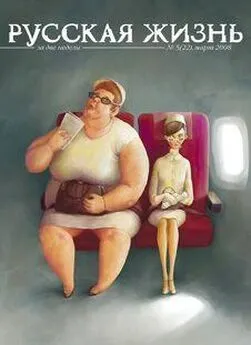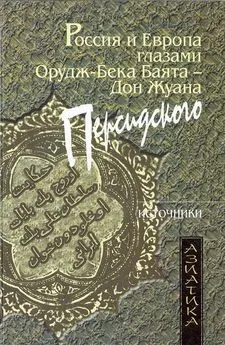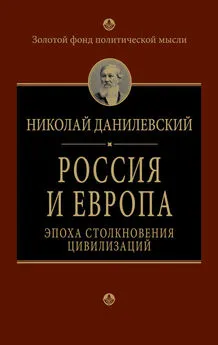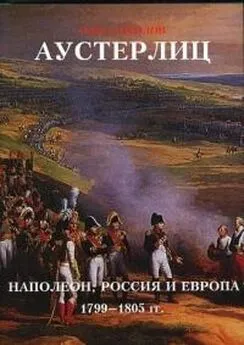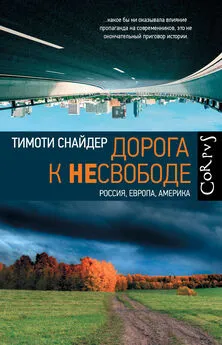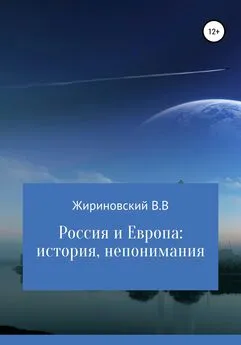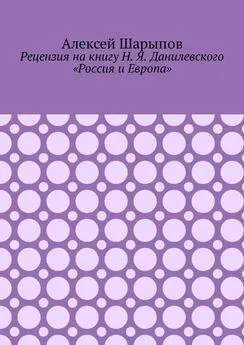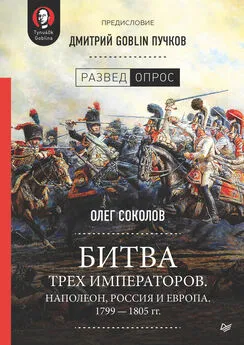Николай Данилевский - Россия и Европа
- Название:Россия и Европа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-212-00482-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Данилевский - Россия и Европа краткое содержание
Николай Яковлевич Данилевский – социолог, публицист, представитель славянофильского направления русской научно-философской мысли.
В самом известном своем сочинении "Россия и Европа" Данилевский выдвинул теорию "культурно-исторических типов", которая оказала огромное влияние на современную западную философию культуры и предвосхитила концепции локальных цивилизаций О.Шпенглера, А.Тойнби и др.
Россия и Европа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гниение есть полное разложение состава органических тел, и притом с выделением разных, неприятно действующих на орган обоняния, газов. Этот последний, весьма несущественный, признак гниения и обращал на себя преимущественное внимание наших западников, как бы наносил им самое чувствительное оскорбление. В полемических статьях того времени с насмешкою говорилось о химиках, не умевших отличать гниения от жизненного брожения.
Невежество тут было на стороне не этих химиков, а тех остроумцев, которые видели существенное различие между гниением и каким-то жизненным брожением, которого, как известно, в природе не существует. Всякое брожение есть разложение, то есть переход из сложных форм организованного вещества в более простые формы, приближающиеся к неорганическим формам соединений. Следовательно, гниение ли, брожение ли,- это в рассматриваемом нами отношении решительно одно и то же. Если брожение, то и разложение форм - вещественных ли соединений или общественного быта. Чтобы из такого разложения на элементы составилась новая органическая форма, необходимо присутствие образовательного принципа, под влиянием которого эти элементы могли бы сложиться в новое целое, одаренное внутренним оживотворяющим началом. Но на такой принцип не было указано, а в этом-то сущность дела. Впрочем, мы пойдем гораздо далее в наших уступках. Искренно и охотно скажем, что явлений полного разложения форм европейской жизни, будет ли то в виде гниения, то есть с отделением зловонных газов и миазмов, или без оного - в виде брожения, еще не замечается. Дело не в этом. Оставив преувеличения, вопрос заключается в том, в каком периоде своего развития находятся европейские общества, на какой точке своего пути: восходят ли они еще по кривой, выражающей ход общественного движения, достигли ли кульминационной точки или уже перешли ее и склоняются к западу своей жизни? Относительно индивидуальной жизни отдельных существ вопрос этот решается легко, потому что имеется для каждого из них множество предметов сравнения. Когда волосы начинают белеть, прямой стан сгибаться, лицо морщиниться, мы знаем значение этих признаков, потому что они бесчисленное число раз уже повторялись. Относительно целых обществ это не так. Правда, история представляет нам несколько культурных типов, перешедших полный цикл своего развития, но обстоятельства этого развития большей части из них нам плохо известны. Собственно, только жизнь Греции и Рима сохранились для нас в достаточной полноте, чтобы служить элементами сравнения, да и из них жизнь Рима была далеко не полною, претерпев слишком сильное искажение через влияние Греции. Кое-что ответит нам и Индия. Но всего этого мало. Возможностью этих сравнений надо, конечно, воспользоваться, но, за неимением достаточного числа данных, мы должны еще обратиться к аналогии других явлений, хотя и неоднородных с явлениями жизни цивилизаций, но имеющих с ними то общее, что они представляют развития под влиянием причин, правильно и постепенно изменяющихся в своей напряженности.
Возьмем для первого примера ход дневной температуры. Она зависит от видимого движения солнца по небесному своду. Высшей точки своей кульминации достигает солнце в момент полудня, но результат этого движения - теплота продолжает еще возрастать два или три часа и после того, как причина, ее производящая, стала уже склоняться.
Затем обратимся к аналогии того процесса в жизни земли, который обусловливается годичным периодом. Время летнего солнцестояния, которому соответствует наибольшая долгота дня и высшее стояние солнца, падает на июнь месяц, а результаты этого периодического движения относительно температуры достигают своей наибольшей величины только в июле или в августе. К этому же времени, или еще позднее, выказываются результаты для жизни растительной. В конце лета и в начале осени наступает период исполнения обещаний весны, тогда как дни уже много сократились и солнце стало гораздо ниже ходить.
Возьмем жизнь отдельного человека: полноты своих нравственных и физических сил достигает он около тридцатилетнего возраста, несколько времени стоят они на одном уровне, а за сорок лет начинают видимо ослабевать. Когда же дают эти силы самые обильные, самые совершенные результаты? Не ранее сорока лет. В одном из своих образцовых критических или биографических опытов,- не могу, к сожалению, вспомнить, в котором именно,- Маколей замечает, что ни одно истинно первоклассное произведение человеческого духа, будет ли то в области науки или в области искусства, не было выполнено ранее сорокалетнего возраста, хотя, без сомнения, их первоначальная идея зародилась в уме в более ранний возраст. Если и можно найти исключения из этого положения английского историка, то их, во всяком случае, очень мало.
То же показывает нам и развитие языков. Филологи единогласно утверждают, что все совершеннейшие языки, не исключая древнейших: санскритского, зендского, греческого, латинского, еврейского, окончили уже рост свой ранее того периода, в который оставили они нам следы своего существования, и находились уже в состоянии вырождения и упадка в те отдаленные времена, в которые они становятся нам известны. По весьма убедительному объяснению Мюллера, в этом заключается даже причина, дающая возможность генетической классификации языков арийского корня, так что кульминационный период развития этого семейства языков падает на то время, когда общий всем арийцам коренной язык не распался еще на свои отрасли. Но когда же дала та сила, которая образовала языки, свои самые большие результаты, то есть литературный цвет и плод? В несравненно позднейший период, для некоторых языков, как, например, для славянских, вероятно, еще и теперь не наступивший.
Из всех этих явлений неоспоримо следует, что момент высшего развития тех сил или причин, которые производят известный ряд явлений, не совпадает с моментом наибольшего обилия результатов, проистекающих из постепенного развития этих сил: что этот последний всегда наступает значительно позже первого. Сравнение не доказательство, compraison n'est par raison, говорит французская пословица. Это так. Но если можно отыскать одну общую причину во всех случаях, которые берутся для сравнения, и если эта же общая причина необходимо должна иметь место и в том явлении, которое этими сравнениями доказывается или поясняется, то сравнения получают доказательную силу, потому что и та частная причина, от действия которой зависит ход развития того процесса, для уяснения которого мы прибегаем к сравнениям,- должна следовать тому же закону, должна принадлежать к той же категории причин, иметь одинаковые свойства с теми причинами, которые действуют в аналогических явлениях, взятых для сравнения. Общая причина, по которой в четырех взятых нами явлениях (в ходе суточной температуры, ходе годичной температуры и в связанных с нею периодических явлениях растительной жизни, в индивидуальном развитии человека и в развитии языков) момент кульминации, достигаемый силою, их обусловливающею, не совпадает с моментом наисильнейшего проявления результатов этой причины, а всегда ему предшествует, так что в этот последний момент причина, обусловливающая собою эти результаты, уже более или менее значительно ослабла, уже нисходит по кривой своего движения,- объясняется из следующего простого и очевидного соображения. Результаты действия причины все более и более накопляются, так сказать, капитализируются до тех пор, пока расходование их не превзойдет притока; и хотя бы сам приток ослабел сравнительно с прошедшим временем, сумма полезного действия все еще должна возрастать, пока он превышает расход. Это само собою понятно относительно дня и года. Но не то же ли относительно развития человека? Если примем, что с тридцатилетнего возраста силы его начинают слабеть, масса сведений, опытность, умение комбинировать умственный материал, метода мышления все еще могут возрастать и улучшаться вследствие, так сказать, духовной гимнастики; и эти приобретения, следовательно, могут еще долгое время перевешивать ослабление непосредственных сил. То же самое происходит и в развитии целых обществ, конечно, несколько непонятным образом. В развитии искусств, например, непосредственные творческие силы могут уменьшаться, но выработанная техника, влияние примеров, образовавшиеся предания, указывающие на ошибки, которых должно избегать, облегчая труд, могут иметь своим последствием то, что искусства будут продолжать процветать еще долгое время и даже достигать высшего совершенства. Почему слабеют силы в отдельном человеке, это нам кажется понятным или, по крайней мере, столь привычным, что и не возбуждает удивления. Но каким образом могут слабеть творческие силы целых обществ, это решительно не поддается объяснению, так как общество состоит из непрестанно возобновляющихся элементов, то есть отдельных людей. Однако история, несомненно, указывает, что это так, и притом не от внешних каких-либо причин, а от причин внутренних. После Юстиниана, например, греческий народ не производит более истинно великих людей ни на каком поприще в течение почти тысячелетнего еще существования империи(3).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: