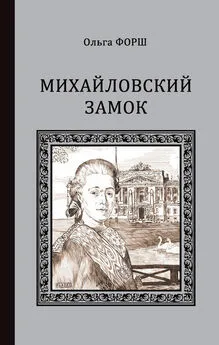Ольга Форш - Одеты камнем
- Название:Одеты камнем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Форш - Одеты камнем краткое содержание
Одеты камнем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он было всхлипнул, но тут же, ликуя, как. будто и он участник первомайского торжества, вдруг сказал мне:
- Ага, теперь небось можно так, теперь и с красными, со знаменами, а прежде-то, прежде?
Меня взорвала его безответственность.
- Дурак! - сказал я ему по-старому. - Да дз-за кого же нельзя было, соломенная голова? Из-за таких вот, как ты да как я. Протестовал ты, когда вешали террористов, когда гнали в тюрьмы? Ты, братец мой, одобрял.
- Ну, mon cher, - сказал он, не смущаясь, - это другое дело, террористы хотели применять насилие..
Я с ним не стал разговаривать. Старик явно сходит с ума. К тому же. он так радовался, что у милиции новая красивая форма, черная с красным воротом, и сшита по росту.
- Mon cher, у нас снова полиция, и насколько приличнее прежней, ma foi [Честное слово (фр.)], - европейская. О, если б я знал, что будет так, ни за что я бы не саботировал! И они, между нами говоря, поторопились истреблять нас. Сразу надо было нас кооптировать... Впрочем, я не ропщу: мое место тихое и, так сказать, са-мо-дер-жавное. Сам себе голова, и канцелярии... хе-хе... никакой.
Я устал от Горецкого и обрадовался, когда он стал уходить. Но, тут же устыдясь, что тягостен мне этот последний родной человек, я сам вызвался его проводить.
Идя обратно, вовлекся я в общий поток и со всеми попал на эту роковую для меня площадь Урицкого, Несметная толпа народу в образцовой тишине и порядке слушала речи высоко на трибуну взошедших ораторов. А когда вознесли и развернули пурпурное знамя, грянул из тысячи уст "Интернационал".
Что действительно видел я и что мне пригрезилось? Не на этой ли самой площади, неотделимый от слова "Россия" - казалось - навеки, мощно звучал иной гимн? И давно ль это было? По времени - краткое пятилетие, по пережитому - века. И вот таким же неотъемлемым от страны стал "Интернационал".
Девочки вернулись веселые, с гостинцами, а Иван Потапыч явно выпивши.
- Угостили кооператоры пивом, не по-товарищески отказаться, объяснил он свое состояние.
Снимая свои новые значки, Иван Потапыч, желая праздник Первого мая утвердить в домашнем быту, крикнул громко, как на улице: "Да здравствует красный пролетариат!" Затем, облекшись в халат и позевывая, нимало не шутя, спросил у девочек:
- А долго ли протянутся царские дни? Младшая, Сашенька, с досадой сказала:
- Вот еще выдумал: про-тяпутся! Завтра же уроки. Революция решительно стала бытом. И как скоро!
Дольше зарастает молодняком старый, с корнем выкорчеванный лес. Отстоялись и становятся милыми новые формы. Из-за чего же, спрашивается, из-за чего столь бесславно погиб Михаил, а я дожил? Не я ведь, а он хотел этих форм.
От солнечного ли дня, от музыки ль и чужой бодрости, но утих мой ревматизм. Когда наутро все ушли, я, как назначено, сел за тетрадь. На чем же я остановился в повести о Михаиле? Да, на письме, данном Верой с такой уверенностью в передаче...
Я не передал этого письма. Оно и сейчас со мною.
Письмо это - моя улика, мое сокровище, мой позор и оправдание. Выцветшее от времени, со следами горьких слез, оно пусть пойдет со мной в могилу.
Как же это вышло, что такого важного письма для судьбы Веры и Михаила я не отдал?
Как и всегда в таких случаях, моя злая воля как бы создала и благоприятные к тому обстоятельства. Вернулся я из отпуска в срок, а Михаила все не было. Оказывается, он днем просрочил, в оправдание чему представил медицинское свидетельство, которому, разумеется, никто не доверял, но по форме так водилось.
Я же, к своему удивлению, оказался вдруг настолько больным от всего мною пережитого, что вечером, за всенощной, упал в обморок и, будучи отнесен в лазарет, оказался в нервической лихорадке. Когда меня раздевал служитель, письмо Веры, хранимое на груди, я успел сунуть в ящик больничного столика и впал в трехдневное беспамятство.
Первое дело, когда я очнулся, было проверить, тут ли письмо, и еще сохраннее спрятать его в ящик под разными туалетными мелочами. Через неделю ко мне пустили товарищей, пришедших меня проведать; между ними был и Михаил. Это было - навсегда помню - первое мая. Оставшись один, он спросил: что случилось в Лагутине и есть ли ему письмо? Я молчал, как бы собираясь с силами, а у самого молнией пронеслось в голове: если скажу, что побег не удался, он найдет способ подвигнуть Веру на поступки чрезвычайные, а я сейчас распростерт и бессилен охранить ее. И, притворяясь более больным, нежели был, я сказал ему:
- Я подробнее расскажу все позднее. Особенного ничего не случилось. Вера пока у себя в имении, на днях же тебе вышлет письмо, а со мной не успела; я уехал внезапно по вызову тетки.
Так велико было невнимание Михаила к моей личности, что, приняв меня однажды за готовую схему, он себе не дал труда всмотреться в меня как в живого человека.
- Нет письма, - сказал я.
Вот оно - и сейчас тут! Голубоватый конверт, вложенный в большой полотняный, прочнейшего качества. И Михаил, и Вера истлели, даже вещи Михаила, пробывшие, как и он, в заключении двадцать один год, по донесению коменданта пришли в ветхость и по его предписанию были уничтожены сожжением в присутствии двух жандармских офицеров, а письмо это цело.
Не отдав письма, я решил окончательно не говорить всей истины, и, выйдя из лазарета, в единственном разговоре, которым меня Михаил удостоил, я был уклончив, отзывался неведением, пребыванием на охоте.
Между тем был конец мая, день производства в офицеры близился. День этот для каждого юнкера - необычайное торжество и в некотором смысле единственный, неповторяемый день в биографии.
Впоследствии для военного многие дни могли быть счастливее и торжественнее, как например, получение за храбрость Георгия; но более разительному психологическому переходу из одного состояния в другое - не повториться.
Производство - это как бы посвящение в рыцари. Вместе с погонами офицера вчерашний юнкер должен был спешно усвоить себе целый курс особой офицерской тактики и знания законов офицерской чести, прав и обязанностей. Этот сложный кодекс был своеобразен и часто прямо противоречил кодексу общечеловеческому.
Этот наш особый уклад был не однажды описан писателями, и я упоминаю о нем лишь потому, что столько лет был он мне как цыпленку скорлупа, охватывающая все, что необходимо для его питания и роста. Но цыпленок, коль скоро он разбил скорлупу, уже на ногах. Я же из разбитых осколков не знаю, куда мне ступить.
На производстве был государь. Он нас поздравлял и целовал фельдфебеля и портупеев. Я обратил внимание на то, что Михаил, смертельно бледный, не сводил горящих взоров с царя. Он был портупей-юнкер. Когда государь слушал рапорт фельдфебеля, он встретился глазами с Михаилом. Я видел: что-то дрогнуло в его лице; он его узнал. Царь повернулся и заговорил с Адлербергом. Я потом узнал от его племянника, моего товарища, что царь спросил: "Кто этот юнкер?" Услыхав фамилию, как бы боясь забыть, он повторил ее дважды: "Бейдеман, Бейдеман". Потом прибавил: "Пренеприятное лицо!"
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: