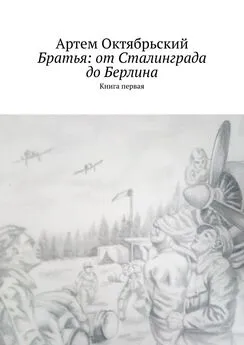Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга первая
- Название:Сталин и писатели Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-24794-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бенедикт Сарнов - Сталин и писатели Книга первая краткое содержание
Новая книга Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должна состоять из двадцати глав. В каждой из них разворачивается сюжет острой психологической драмы, в иных случаях ставшей трагедией. Отталкиваясь от документов и опираясь на них, расширяя границы документа, автор подробно рассматривает «взаимоотношения» со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово.
В первую книгу из двадцати задуманных автором глав вошли шесть: «Сталин и Горький», «Сталин и Маяковский», «Сталин и Пастернак», «Сталин и Мандельштам», «Сталин и Демьян Бедный», «Сталин и Эренбург».
Сталин и писатели Книга первая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Менее всего были они похожи на тонких ценителей изящной словесности. Это были совсем простые люди, худо одетые, с усталыми, изможденными лицами. Но в казенные слова симоновского доклада они вслушивались так, словно от того, что сейчас скажет там, в Большом театре, знаменитый поэт, зависела вся их жизнь.
Но в какой-то момент, где-то примерно в середине доклада, они вдруг потеряли к нему всякий интерес. Вскочили на своих лошадок и ускакали — так же неожиданно и так же стремительно, как появились.
Это были сосланные в Казахстан калмыки. И примчались они из дальних мест своего поселения в этот городок, на эту площадь, с одной-единственной целью: услышать, произнесет ли московский докладчик, когда он будет цитировать текст пушкинского «Памятника» (а он ведь непременно будет его цитировать! Как же без этого?), слова: «И друг степей калмык».
Если бы он их произнес, это означало бы, что мрачная судьба сосланного народа вдруг озарилась слабым лучом надежды.
Но, вопреки их робким ожиданиям, Симонов этих слов так и не произнес.
«Памятник» он, конечно, процитировал. И даже соответствующую строфу прочел. Но — не всю. Не до конца:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус…
И — всё. На «тунгусе» цитата была оборвана.
Я тоже слушал тогда (по радио, конечно) этот доклад. И тоже обратил внимание на то, как странно и неожиданно переполовинил докладчик пушкинскую строку. Но о том, что стоит за этой оборванной цитатой, узнал гораздо позже. И историю эту про калмыков, примчавшихся из дальних мест, чтобы послушать симоновский доклад, мне тоже рассказали потом, много лет спустя. А тогда я только с удивлением отметил, что при цитировании пушкинского «Памятника» у докладчика почему-то пропала рифма. И очень удивился, что Симонов (поэт все-таки!) ни с того ни с сего вдруг изувечил прекрасную пушкинскую строку.
Пропавшую рифму Пушкину вернули лишь восемь лет спустя. Только в 57-м (после смерти Сталина, после XX съезда) сосланный народ возвратился в родные калмыцкие степи, и текст пушкинского «Памятника» мог наконец цитироваться в своем первозданном виде. Даже со сцены Большого театра.
Если из высших политических интересов даже у Пушкина (которого Сталин, как шутили в то время, в 37-м сделал членом Политбюро) можно было ампутировать рифму, так что уж церемониться с Маяковским, который сам сказал: «Умри, мой стих, умри, как рядовой, — как безымянные на штурмах мерли наши».
В случаях с Троцким, Зиновьевым, Антоновым и Мураловым привычка Маяковского зарифмовывать фамилию любого, даже не очень крупного «вождя» нанесла его стихам некоторый урон. Зато в случае со Сталиным, фамилию которого он зарифмовал дважды, тот же любимый прием как будто пошел ему во благо?
Это, как говорят в таких случаях герои Зощенко, еще вопрос и ответ. И от ответа на этот роковой вопрос нам не уйти.
Но — всему свое время.
Сюжет второй
«Я НЕ БУДУ ЧИТАТЬ «ХОРОШО!»…»
При жизни Маяковского Сталин (в отличие от Ленина), — если не считать тех аплодисментов в Большом театре, — своего отношения к Маяковскому никак не проявил. Но после его самоубийства отношение это проявилось как отчетливо неприязненное.
Вообще-то в этой его неприязни к Маяковскому вроде не было ничего неожиданного. Зная эстетические вкусы и симпатии Сталина, а главное, его эстетические установки, предписанные всему советскому искусству, Маяковский не мог ему нравиться.
Установки эти, как мы помним, состояли в утверждении простоты и народности и резком осуждении «левацкого сумбура», «левацкого уродства» и вообще всего «левацкого» в искусстве. А Маяковский не просто утверждал и защищал все «левацкое»: он был вождем, лидером Левого Фронта Искусств.
И тем не менее именно его Сталин назвал лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи.
Эта нелогичность сразу была замечена и отмечена многими. В особенности теми, кто сами причисляли себя к «левым».
СПРАВКА СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР ОБ ОТКЛИКАХ ЛИТЕРАТОРОВ И РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА НА СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» О КОМПОЗИТОРЕ Д.Д. ШОСТАКОВИЧЕ
Не позднее 11 февраля 1936 г.
…Нами зафиксированы отрицательные и антисоветские высказывания отдельных писателей и композиторов.
Ниже приводятся наиболее характерные из отрицательных отзывов.
Олеша Ю.(прозаик): «В связи со статьей в «Правде» против Шостаковича я очень озабочен судьбой моей картины, которая должна со дня на день поступить на экран. Моя картина во много раз левей Шостаковича… Мне непонятны два разноречивых акта: восхваление Маяковского и унижение Шостаковича. Шостакович — это Маяковский в музыке, это полпред советской музыки за границей, это гениальный человек, и бедствием для искусства является удар по Шостаковичу…»
Виктор Шкловский(литератор): «После того, как появилась резолюция Сталина о Маяковском, ей сразу постарались дать ограничительное толкование. Дескать, к Асееву это не относится. Теперь разнесли Шостаковича и не преминули мимоходом лягнуть Мейерхольда…
Вс. Мейерхольд: «Пастернак не едет на пленум ССП, несмотря на то, что его приглашали. Он очень расстроился появлением статьи о Шостаковиче, т.к. принял на свой счет установку о понятности. Его стихи, конечно, непонятны, и он это знает.
Шостаковича… ударили слишком сильно. Он теперь не будет знать, как писать. Что бы делал Маяковский, если бы ему сказали: пиши так-то, ну, например, как Тургенев».
(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 290—294.)Очевидный и даже кричащий разнобой в оценке Сталиным Маяковского и Шостаковича и впрямь было трудно понять. Это была какая-то «двойная бухгалтерия», недоступная понимаю людей, руководствующихся привычной логикой.
Но у Сталина была своя логика, и из троих «левых», высказывания которых я тут привел, эту сталинскую логику понял только один: Виктор Шкловский.
Он сразу, еще до появления статьи «Сумбур вместо музыки», смекнул, что сказанное Сталиным о Маяковском на Асеева не распространяется.
Позже, когда последовало соответствующее разъяснение (статьей «Сумбур вместо музыки»), это поняли уже многие:
Если Маяковский
в нашей стране
каждым поколением
читается
заново,
это
ни в коем случае
не
распространяется
на
Кирсанова.
Но Сталин даже особенно и не старался привести свою логику в соответствие с привычной, общепринятой.
Ленин в этом смысле был последовательнее Сталина Он недолюбливал Маяковского и откровенно в этом признавался. Ленину претила сложность Маяковского, его приверженность «левым формам», его футуризм, потому что он искренно хотел, чтобы искусство было доступно массам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: