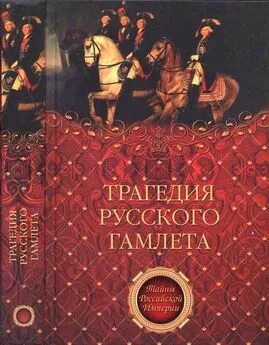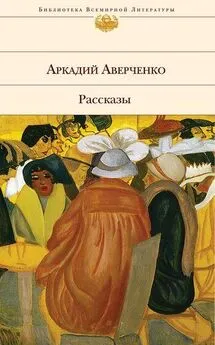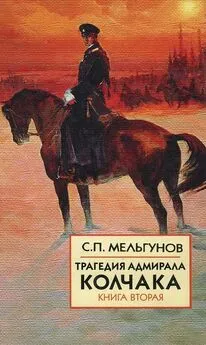Сергей Волков - Трагедия русского офицерства
- Название:Трагедия русского офицерства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство: Центрполиграф
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:ISBN: 5-9524-0110-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Волков - Трагедия русского офицерства краткое содержание
Книга посвящена истории русского офицерства в период великого перелома в истории России, связанного с революциями 1917 года, Гражданской войной, вынужденной эмиграцией. Прослеживаются основные типы судеб представителей русского офицерского корпуса, оказавшихся в тех или иных армиях и на чужбине. Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми статистическими материалами, ярко покалывающими действительный трагизм гибели этого уникального социального слоя и культурно-психологического феномена российской государственности. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, ученых, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.
Трагедия русского офицерства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Больших жертв среди офицеров в самой Ставке не было, но с ее занятием большевиками исчезла последняя преграда, хоть как-то защищавшая офицеров от озлобленной солдатской массы. Те генералы, которые формально остались на руководящих постах, ничего не могли поделать, им лишь оставалось констатировать полный развал армии и какое-то время продолжать доносить по инстанции сведения о происходящих расправах. Овладев армией, большевики по-прежнему продолжали опасаться ее и продолжали политику «слома старой армии». Им еще пришлось какое-то время над этим поработать, поскольку, несмотря на все, в армии сохранялись еще боеспособные части и соединения. Как отмечал В. Шкловский: «У нас были целые здоровые пехотные дивизии. Поэтому большевикам пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожившему аппарат командования и его суррогат — комитеты. Судьба нашего офицерства глубоко трагична. Положение офицера было, конечно, тяжелее положения комитетчика: он должен был командовать и не мог уйти. «Окопная правда» и просто «Правда» преследовали его и указывали на него как на лицо, непосредственно виновное в затягивании войны. А он должен был оставаться на месте. Лучшие оставались, именно они и пострадали больше всего. Мы сами не сумели привязать этих измученных войной людей, способных на веру в революцию» [83]. Это запоздалое признание адепта Временного правительства особенно ценно.
После занятия Ставки и заключения перемирия полным ходом пошла «демократизация» армии. Во всех частях власть переходила к военно-революционным комитетам и повсеместно вводились выборы командного состава. 30 ноября по частям было разослано «Временное положение о демократизации армии», по которому офицерские чины, знаки отличия и ордена вовсе упразднялись. Это вызвало новый подъем озлобления против офицеров, настроение которых было крайне угнетенным и подавленным благодаря неопределенности их положения как в настоящем, так и в будущем. Последовали эксцессы на почве требований снятия погон и т. п. (Например. 1 декабря был убит начальник 6-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор Петров и едва избегли смерти ее начальник штаба полковник Колецкий и командир 22-го полка полковник Гловинский, а в 21-м полку — капитан Тугаринов и чиновник Тимонов.) Во многих частях офицеры были лишены кухни и вестовых. С началом демобилизации офицерском старших возрастов (тех же, что и демобилизуемые солдаты, т. е. свыше 39 лет) было разрешено вернуться домой. Однако не во всех частях они смогли это сделать, поскольку соответствующим распоряжением комитетам предоставлено было право решать — отпустить этих офицеров, или, арестовав их, задержать при части.
Наконец, 16 декабря был опубликован декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах», провозглашавший окончательное устранение от власти офицеров и уничтожение самого офицерского корпуса как такового, а также декрет «О выборном начале и организации власти в армии». О впечатлении, произведенном этими декретами даже на тех офицеров, которые смирились было уже с новой властью, имеется авторитетное свидетельство наиболее видного из них: «Человеку, одолевшему хотя бы азы военной науки, казалось ясным, что армия не может существовать без авторитетных командиров, пользующихся нужной властью и несменяемых снизу… генералы и офицеры, да и сам я, несмотря на свой сознательный и добровольный переход на сторону большевиков, были совершенно подавлены… Не проходило и дня без неизбежных эксцессов. Заслуженные кровью погоны, с которыми не хотели расстаться иные боевые офицеры, не раз являлись поводом для солдатских самосудов» [84]. На это время приходится и наибольшее число самоубийств офицеров (только зарегистрированных случаев после февраля было более 800), не сумевших пережить краха своих с детства усвоенных идеалов и крушения русской армии (хорошо известен случай, когда, не вынеся унижения перед и без того наглым и заносчивым германским командованием, застрелился посланный в составе большевистской делегации на переговоры о мире полковник В. Е. Скалон).
Помимо моральных страданий, эти меры поставили офицерство и в крайне тяжелое материальное положение, особенно в тылу. «Положение офицеров, лишенных содержания, самое безвыходное, а для некоторых равносильно голодной смерти, так как все боятся давать офицерам какую-нибудь, даже самую черную работу; доносчики множатся всюду, как мухи в жаркий летний день и всюду изыскивают гидру контр-революции. Над офицерами совершили последнее надругание, лишив их семьи всякого содержания и сделав это без всякого предварения; в довольствующих учреждениях сегодня (18 декабря) происходили потрясающие сцены, так как некоторые жены и вдовы приехали из пригородов на занятые деньги и им не на что вернуться домой, где сидят некормленные дети; положение многих такое, что в управлении воинского начальника писаря не выдержали и, забыв про контр-революцию, собрали между собой некоторую сумму денег и роздали наиболее нуждающимся. Депутация офицерских жен целый день моталась по разным комиссарам с просьбою отменить запрещение выдать содержание за декабрь; одна из представительниц, жена полковника Малютина спросила помощника военного комиссара товарища Бриллианта, что же делать теперь офицерским женам, на что товарищ сквозь зубы процедил: «Можете выбирать между наймом в поломойки и поступлением в партию анархистов» [85].
Большинство офицеров на фронте пассивно переживало происходящее. «Я чаще всего слышал один и тот же ответ: «Мы помочь ничему не можем, мы бессильны что-либо изменить, у нас нет для этого ни средств, ни возможности, лучшее, что мы можем сделать при этих условиях — оставаться в армии и выжидать окончания разыгрывающихся событий или с той же целью ехать домой». Такая психология — занятие выжидательной позиции и непротивление злу, была присуща командному составу не только нашей армии, ею оказалась охваченной большая часть и русского офицерства, и обывателя, предпочитавших тогда, когда большевики были наиболее слабы и неорганизованны, уклониться от вмешательства с тайной мыслью, что авось все как-то само собой устроится, успокоится, пройдет мимо и их не заденет. Поэтому многие только и заботились, чтобы как-нибудь пережить этот острый период и сохранить себя для будущего» [86].
Эти события подвели черту под историей русской армии, которая с этого времени практически прекратила свое существование. Но «упраздненное» большевиками русское офицерство не исчезло с росчерком пера радетелей III Интернационала и сумело еще стать достаточной преградой на пути мировой революции. Оно осталось, ибо запрещением носить погоны и называться офицером невозможно было уничтожить дух людей, три года воевавших за Россию и даже теперь желавших сделать все возможное, чтобы не допустить ее гибели [87].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: