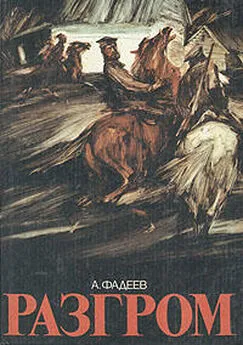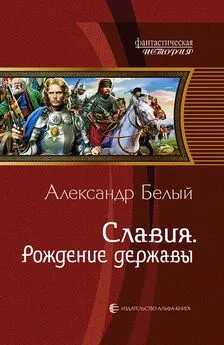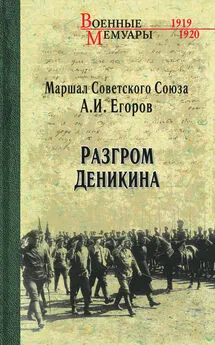Александр Шевякин - Разгром советской державы. От оттепели до перестройки
- Название:Разгром советской державы. От оттепели до перестройки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9533-0453-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шевякин - Разгром советской державы. От оттепели до перестройки краткое содержание
За каждым значительным по продолжительности и глубине историческим фактом, повлекшим за собой грандиозные перемены, всегда стоят самые совершенные на тот момент политические механизмы. Не было исключением и разрушение или, если быть совсем точным, разгром Советского Союза. Формат книги не позволяет раскрыть подобный механизм во всех деталях, поэтому автор ограничился тем, что обрисовал, кем и как были разработаны методы управления этим трагическим процессом, имевшим, прежде всего советское и американское происхождение.
В книге представлены все на сегодняшний день наиболее ценные материалы, освещающие «перестройку» и предшествующие ей годы.
Разгром советской державы. От оттепели до перестройки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
7. Как руководитель самой влиятельной партии, как «Старший брат» пользовался самым большим влиянием среди всех стран — членов СЭВ и ОВД, а также других стран входивших в той или иной степени в советский контур управления и влияния в тот или иной период времени: Ангола, Афганистан, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германская Демократическая Республика, Гранада, Камбоджа, Куба, Лаос, Мозамбик, Монголия, Никарагуа, Польша, Румыния, Северная Корея, Сирия, Чехословакия, Йемен, Эфиопия; а также в странах, где были коммунистические и рабочие партии, — тут список поистине безграничен, включая те же Соединенные Штаты.
8. Совмещал высшие посты в Вооруженных Силах СССР — назывались они то Председатель Совета Обороны, то более откровенно — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР. Л.И. Брежнев, кроме того, с марта 1980 г. стал Верховным Главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил государств — участников Варшавского Договора [57. С. 11]. Неизвестно, правда, распространилась ли эта должность на его преемников.
9. Как и в государствах традиционного типа, где глава правящей партии имеет право на занятие поста либо председателя парламента, либо главы правительства, генсеки имели право на совмещение таких постов и активно им пользовались — Председателем Совета Народных Комиссаров (с 16 марта 1946 г. — Председателем Совета Министров СССР) был И.В. Сталин, а с 27 марта 1958 г. по 14 октября 1964 г. этот пост занимал Н.С. Хрущев. Председателями Президиума Верховного Совета СССР являлись Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев.
Налицо была сверхцентрализация высшей партийной, государственной и военной власти в руках одного лица. Генеральный Секретарь ЦК КПСС был чрезмерно загружен. Это приводило к тому, что один человек «в девяти лицах» физически не должен был справиться с объемом работы. Обычно в таких случаях выручает разделение власти и делегирование полномочий, но этого не делалось. (В Китае, например, высшая власть поделена между Председателем КНР, Председателем Центральной комиссии советников Китая, Генеральным Секретарем ЦК КПК, Председателем Центрального Военного Совета, Премьером Государственного административного совета КНР, Председателем Всекитайского Собрания народных представителей (ВСНП), Председателем Президиума ВСНП.) Это совершенно очевидно (и об этом следует помнить, чтобы ясно оперировать понятием «Генеральный секретарь ЦК КПСС») и указывает на определенные сложности в высшем государственном управлении.
Политбюро и Секретариат состояли из некоего непостоянного числа членов и кандидатов в члены Политбюро и Секретарей ЦК КПСС, последние курировали один или несколько отделов аппарата ЦК.
Заседания Политбюро ЦК КПСС, которые проходили по четвергам, не имели строго определенного, жесткого регламента, не имели и требований к соблюдению правил управленческой науки на самом высоком научном уровне. И все это приводило к преобладанию субъективного начала в принятии решений. У людей со стороны это вызывало недоумение, — на Политбюро, где решался тот или иной важный вопрос, стоило только самому влиятельному человеку наложить вето, как вопрос решался в его пользу: «Меня поразили два обстоятельства: дело не в том, что предложение не приняли, такое бывало и раньше, но на заседании не прозвучало никакой аргументации, никаких серьезных доводов, не приняли — и все.
Удивило и то, что М.С. Горбачев, который уже одобрил это предложение на заседании секретариата ЦК, на этот раз промолчал, и секретари ЦК — тоже, хотя еще вчера они приняли это решение и вынесли на заседание Политбюро.
Явпервые почувствовал, какая строгая иерархия в высших эшелонах власти. Каждый должен знать свое место. Если говорит член Политбюро, остальные должны слушать не возражая. В этом я убедился еще не раз. Хотя должен сказать, что некоторые кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК отстаивали свою принципиальную позицию. Так, например, вел себя кандидат в члены Политбюро, первый секретарь ЦК партии Белоруссии П.М. Машеров. Так же держались на многих заседаниях Политбюро В.И. Долгих, М.В. Зимянин, А.И. Лукьянов» [7.01. С. 168–169].
Этот субъективный характер проявлялся и тогда, когда нужно было принимать непопулярные решения. Тогда руководители просто затягивали их принятие, желая уйти от ответственности. Время, когда еще возможны были какие-то спасительные меры, уходило. Часто к этому вопросу возвращались только для того, чтобы констатировать, что время упущено безвозвратно: «…несколько раз докладывал о подготовке реформ цен на заседаниях Политбюро. Само вынесение этих вопросов на обсуждение ПБ вроде бы свидетельствовало о внимании к ним со стороны высшего партийного руководства. А на деле? На деле все сводилось к чисто информационной процедуре. Члены ПБ были людьми опытными, тертыми, открыто свои взгляды по столь острому вопросу предпочитали не высказывать. И вместо обсуждения обычно получались «ликбезовские» диалоги. Мне задавали бесчисленные вопросы, а я отвечал, отвечал, отвечал… Коротенько так, часа на четыре. А решения? А решений — никаких! «Работайте дальше, уточните то и вот это», — таково мнение большинства членов ПБ. В общем, нормальный, типичный цековский стиль обсуждения на высоком уровне, когда подспудная, неизреченная цель состоит в стремлении потопить вопрос» [49. С. 85].
Красноречивому М.С. Горбачеву своими разговорами удалось парализовать деятельность членов Политбюро. Заседания Политбюро он мог затянуть до бесконечности, сообщают, что по поводу известной статьи Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами» высшее партруководство заседало два дня, чего не могли себе позволить предшественники. «Я слышал от очевидцев, как проходили заседания Политбюро до прихода к власти М.С. Горбачева, знаю, и не понаслышке, как вел заседания Секретариата ЦК М.А. Суслов. Любой вопрос тогда обсуждался не более пяти — десяти минут.
Рассказывали, что Ю.В. Андропов проводил заседания Политбюро в течение двух-трех часов. Охотно верю, ибо именно так он вел заседания коллегии КГБ СССР.
Совсем по-иному проходили заседания Политбюро при М. Горбачеве: обычно они длились с 11 утра до 8 часов вечера, а то и позже. На них приглашалось множество людей, и каждый норовил выступить. Конечно, нередко решались проблемы, которые требовали серьезного и всестороннего обсуждения, но когда в течение трех часов шла дискуссия о создании Детского фонда, это, откровенно говоря, вызывало недоумение.
А чего стоили бесконечные ожидания в приемной! Вызывают на заседание Политбюро и отрывают от дел министра, маршала, академика, они ждут три-четыре часа, пока их не пригласят в зал, где вопрос подчас занимал не более трех — пяти минут» [7.01. С. 169–170].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: