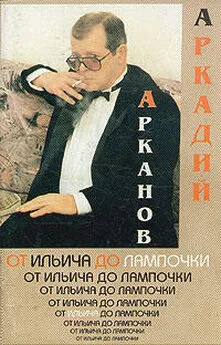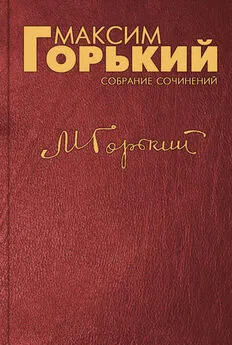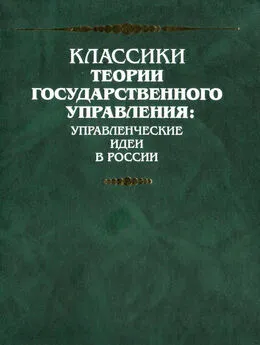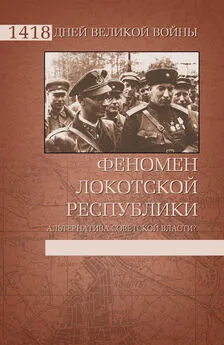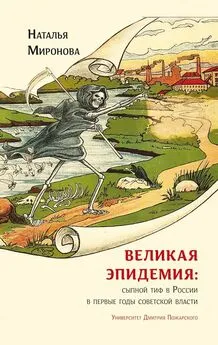(Русак) Степанов - Свидетельство обвинения (Том 1, Революция и первые годы Советской власти)
- Название:Свидетельство обвинения (Том 1, Революция и первые годы Советской власти)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
(Русак) Степанов - Свидетельство обвинения (Том 1, Революция и первые годы Советской власти) краткое содержание
Свидетельство обвинения (Том 1, Революция и первые годы Советской власти) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Русский человек охотно и много жертвовал на Церковь, на созидание и украшение храмов. Это щедрое рвение кое-кто приписывал то грубости и невежеству, то ханжеству и лицемерию русского народа. Говорили: "Не лучше ли было бы употребить эти деньги на "народное образование", на школы?" И на то и на другое жертвовалось своим чередом, но это была совсем иная жертва благочестивый русский человек со здравым смыслом не один раз призадумывался, прежде чем развязывал свой кошелек на щедрую дачу для нецерковных целей.
Иное дело - Церковь! Она сама за себя говорит, она - живое, всенародное учреждение. В ней и живому, и умершему отрадно В ней всем свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется. Всякий из малых и бедных стоит в ней, как в своем доме; каждый может назвать церковь своею, потому что церковь на народные рубли, больше того - на народные гроши строена и народом держится, как сказал Победоносцев. [8]
Одни русские люди строили храмы, другие покупали для них принадлежности, третьи при жизни или после смерти в своих духовных завещаниях передавали Церкви в лице ее разных учреждений (монастырей, церквей, братств, школ и т.д.), кто что мог и желал. Все это была сознательная и добровольная жертва Богу со стороны русского народа
И какое же ожесточение сердца и непонимание русской души нужно иметь, чтобы такие способы создания церковного имущества отнести к глупости русского народа, не догадывающегося, мол, что он является предметом эксплуатации со стороны корыстолюбивого духовенства!
Декреты о национализации имуществ распространялись на всех помещиков и капиталистов [9] - это знают все, не об этом речь В конце концов, с большой натяжкой, может быть оправдана политика применения этих декретов даже по отношению к монастырям, владевшим действительно значительными угодьями и приписными крестьянами, наряду с помещиками и капиталистами. И правда, негоже монастырям владеть, как впрочем и всем и всякому, землей, [10] этим чисто национальным богатством. Но никто, с другой стороны, не может оправдывать такие меры по отношению к Церкви в сфере имущества собственно церковного назначения.
Никто не имеет также права, смешивая характер церковного имущества с личным богатством капиталиста, ставить его на тот же уровень под удар декрета. И уж совсем неприлично подсчитывать Денежные доходы Церкви после отделения Церкви от государства и ахать в виду колоссальной суммы, которая выявляется в таких статистиках.
Кроме прочего, это компрометирует самих атеистов-статистов, потому что наличие колоссальных ценностей в церквах и монастырях, как бы ни махали руками против этого теоретики русского социализма, в первую очередь свидетельствует о положительном и бескорыстном отношении русского народа к Церкви, который на протяжении многих веков все лучшее, чем жил, что имел, без колебания добровольно отдавал ей. История вряд ли зафиксировала хотя бы один случай, чтобы церковная или монашеская община, подобно революционерам, приобретала себе эти ценности, не говоря уже о том, чтобы с оружием в руках, а просто силой.
Церковь - не капиталист, который, вкладывая свою наличность в оборот, извлекает из этого значительную прибыль. Она существует только за счет добровольных взносов, поэтому удивляющая некоторых цифра ее доходов говорит скорее не о ее помещицких или капиталистических замашках, а о ее авторитете среди простого русского народа, из которого она состоит, которым она и живет
Государственная политика насилия по отношению к Церкви, само собой разумеется, не могла не вызвать справедливый протест в среде духовенства: формально этот протест носил, действительно, контрреволюционный характер, а по-существу это была попытка отстоять самостоятельность Церкви, потому что декрет об отделении Церкви от государства был ложно понят многими как свобода действий - вернее - как свобода произвола по отношению к Церкви, со всеми губительными для Церкви последствиями.
И тот же Священный собор Православной Российской Церкви, рассматривая вопрос положения Церкви после выхода в свет декрета об отделении Церкви от государства, обратил внимание членов Собора не на то, что происходит конфискация помещичьих и капиталистических владений, а на то, что "отбираются имущества монастырей и церквей православных". [11] Протест Собора - даже не против конфискации национальных природных богатств, какими владели монастыри, это протест - против "отбирания" имущества храмов и монастырей, т.е. предметов собственно церковного назначения.
Дело даже не в том, что монастыри владели громадными богатствами. Вопрос сводится к идеологической непримиримости нового строя с религиозной идеей. Новое государство не хотело ждать, пока, само собой, в результате антирелигиозной пропаганды, перестроится сознание людей, оно не боялось подвергать свое существование опасности ликвидации, в случае если бы своим гражданам обеспечило действительную свободу совести.
И наличие экономических богатев в руках Церкви оказалось на руку революционному правительству в его политике по отношению к религии
Представив Церковь единственно с экономической стороны, назвав ее метафорически "крупным помещиком и капиталистом", государство фактически начало проводить по отношению к ней ту же политику ломки и уничтожения. Сопротивления оно не терпело ни в какой форме. "Именем революционного правительства..." было достаточно, чтобы у демократии оказывался кляп во рту, даже если за таким авторитетом скрывался негодяй и самый настоящий мерзавец.
Никому не хотелось вникать в содержание этих богатств, в характер их накоплений.
Кто-то жертвовал на храм и не хочет, чтобы его пожертвование стало достоянием Иванова, Сидорова и Петрова. Если бы он знал об этом, конечно, никогда не пожертвовал бы, а отдал или завещал на дело и людям, которые ближе его сердцу, - хотя бы на народный университет или сельскую школу.
"Вот почему и французская палата выделила этот класс имуществ при отделении Церкви от государства в особый класс и постановила возвратить их жертвователям, буде таковые окажутся в состоянии доказать свои права на имущество", - справедливо писал "Петроградский голос" 26-го января 1918-го года. [12]
Только по незнанию или рассчитывая на невежество аудитории можно утверждать, что церковное имущество, чтобы это ни было (земля, дома, деньги или процентные бумаги), принадлежит духовенству или монахам, которые скопили их для себя в своих личных целях, путем эксплуатации народа.
Кто желал, тот легко мог убедиться из крепостных актов и других бумаг, что собственниками недвижимого имущества являлись не духовенство или монахи, а различные церковные учреждения: храмы, монастыри, братства, школы. А кто желал уяснить себе, что такое церковные деньги или процентные бумаги, тот увидел бы, что они употреблялись не на удовлетворение нужд духовенства и монахов, а на удовлетворение многочисленных нужд самой Церкви.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: