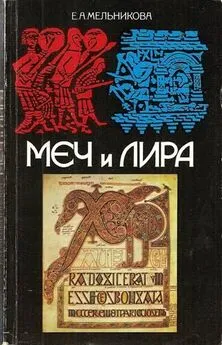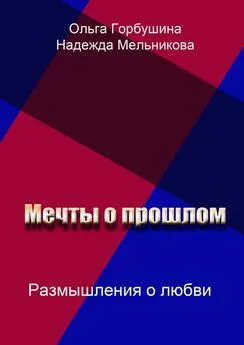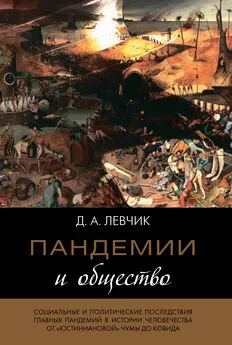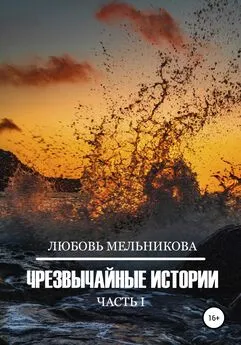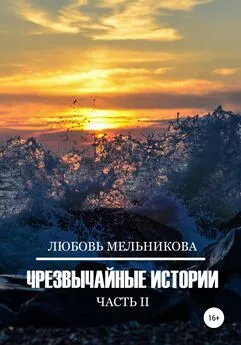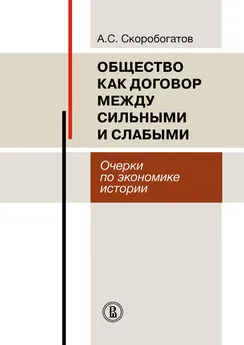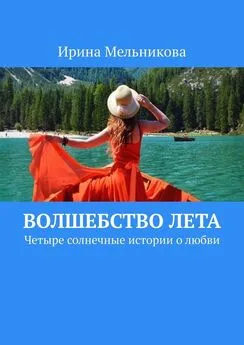Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе
- Название:Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе краткое содержание
Книга посвящена истории Англии VIII-X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.
Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вёлунд изведал ... сидельца многострадального...
тоску изгнанья, Беадохильд большей
горе изгою
слугою было в доме зимнестуденом
болью было, горшим горем
не гибель братьев...
(Деор, 1—4, 8—9)
Мотив мести не упоминается вообще, и сказание приобретает совершенно иной смысл и значение, чем в скандинавском эпосе: бремя страданий — удел каждого, и даже самые прославленные герои прошлого не избежали его. Именно этот эмоционально-психологический угол зрения и делает «Деор» элегией, а не памятником героического эпоса.
Своеобразный параллелизм сюжетов во всех строфах подчеркивается единством рефрена: «Как минуло
то, так и это минет». Это усложнение, распространение известного фольклорного приема, характерного для поэтических (а иногда и прозаических) произведений. Но в фольклоре мы чаще встречаем более простые формы параллелизма: параллелизм сравнений, метафор, иногда стилистических конструкций.
о друг воителей,
доверь пришельцам, мне с моею
верной дружиной, отряду храбрых
охрану Хеорота!
Доверь, владыка блистательных данов,
опора Скильдингов, щит народа,—
тебя заклинаю я, прибывший
с дальнего берега,—
(Беовульф, 427—433)
В элегии «Деор» параллелизм не стереотипный поэтический прием, не просто стилистическое средство, распространяющее и украшающее текст. Он приобретает важное значение в структуре поэмы и становится в определенной степени ключом к ее пониманию. Все упомянутые эпические сюжеты касаются «великих людей» прошлого. Их трагический конец, известный слушателям, не преуменьшает, а, наоборот, усиливает блеск их величия: их слава, не померкнув, пережила века. Сопоставление с ними невольно отбрасывает блеск того же трагического величия и на судьбу Деора. Как и они, подчеркивается в элегии, страдает Деор, как и для них, пройдет все, но останется слава и память людей. Тем самым судьба Деора из локального, малозначительного события превращается в героическую катастрофу, приобретает возвышенное звучание, фигура скопа становится в ряд с Теодорихом, Веландом, Эрманарихом.
Сюжетные параллели связывают элегию с героическим миром англосаксонского эпоса. В «Деоре» нет описания прошлого, не показано и настоящее. Четырнадцать строк последней строфы — собственно содержание поэмы — лишь намечают канву повествования, скорее констатируют, чем изображают, ситуацию, типичную для элегий:
Муж горемычный, что в этом мире
он, смутный духом, пути святого
сидит и думает, властителя неисповедимы:
страдалец безрадостный, кому отмерены
что не видать предела немалые блага,
его недоле, часть беспечальная,
о том он мыслит, а другим — злосчастье.
(Деор, 28—34)
Это лишь остов элегии, но он облекается в плоть и кровь именно параллелями в первых пяти строфах. Упоминания Веланда и Эрманариха вызывают бесчисленный ряд ассоциаций, уводящих слушателя (или позднее читателя) в идеальный эпический мир, на фоне которого и воспринимается заключительная строфа.
Таким образом, связь с героическим эпосом даже поэмы «Деор», единственной, которая, казалось бы, прямо использует сюжеты героические, является опосредованной. Поэма не столько заимствует сюжеты и образы, сколько уходит корнями в героический мир эпоса. Элементы отображаемого мира, ситуации, образ героя — все преломляется через модель идеальной эпической действительности, существующей в сознании певца. В эпическом мире черпают свои образы, идеалы, представления и картины жизни создатели элегий. И хотя в них воплощаются сюжеты, не свойственные героическому эпосу, их мир остается тем же самым.
Что же дало толчок развитию именно этих сюжетов, откуда появилась идея бренности всего сущего, которая составляет лейтмотив элегий? Почему в VIII в. возник этот столь самобытный жанр? Ответить на эти вопросы однозначно, видимо, невозможно. Практически все специалисты, занимавшиеся элегиями, приписывают эти особенности влиянию христианской идеологии п, указывая при этом на значительное количество различных упоминаний бога, божественного провидения и т. д. Действительно, таких упоминаний немало: вспомним, например, строки 32—34 «Деора»: «пути святого властителя неисповедимы». Более того, концовка «Скитальца» несколько напоминает проповедь:
Блажен, кто стережет свою веру,
ибо жалобам муж не должен
всем предаваться сердцем,
коль сам он в себе не сыщет,
как ему исцелиться в скорби;
добро тому, кто взыскует
помощи господней на небе,
где обеспечена всем людям защита.
(Скиталец, 112—115)
Не раз обращается в своих мыслях к богу Море-странник. Более того, зачастую и там, где нет прямых упоминаний христианских реалий, возникают ассоциации, связанные с настроениями безысходности, прехо-дящести жизни. Какой неизбывной тоской исполнены строки 92—96 «Скитальца», как болезненно остро выражено в них ощущение мимолетности, бренности земных радостей:
...то миновало время, скрылось, как не бывало,
за покровами ночи. (Скиталец, 95—96)
Не менее патетичен и рефрен «Деора»: «Как минуло то, так и это минет».
В то же время в некоторых элегиях невозможно найти никаких следов влияния христианского мировоззрения. Это касается таких песен, как «Руины», «Вульф и Эадвакер», «Послание мужа». Да и элегии в «Беовульфе» лишены каких бы то ни было христианских реминисценций. Не случайно Тен Бринк и Лоуренс считали христианские элементы в элегиях позднейшими наслоениями п. Некоторые другие исследователи говорили о смешении языческих и христианских представлений в элегиях. Были сделаны даже попытки вычленить и отбросить строки элегий, содержащие христианские реалии. Так, позднейшим добавлением религиозно настроенного редактора или писца считают нередко вторую часть (от строки 65) «Скитальца»и, заключительный (после строки 108) раздел «Морестранника».
Однако едва ли плодотворной может оказаться попытка расчленить органически цельное произведение, будь то «Беовульф» или элегия, на составные части, механически вырывая куски из художественной ткани повествования. Ведь прежде, чем слиться воедино, они были осмыслены, соединены в сознании певца (или редактора или переписчика), и лишь из этого сплава могло родиться законченное произведение. Именно поэтому решительно невозможно отсечь христианские элементы в элегиях и считать их абсолютно чужеродными интерполяциями.
К VIII в. христианство, хотя и в примитивной, облегченной форме, широко вошло в быт и сознание англосаксов. Образы и сюжеты Библии стали привычными элементами повествовательной культуры и в значительной степени, как будет показано в следующей главе, смешались с традиционными формами героического эпоса. Естественно, что пополнился и видоизменился круг стереотипных представлений и идеалов англосаксонского скопа, его идеальный эпический мир. В новой картине героического мира определенное место заняло и христианство. Поэтому христианские реалии в элегиях не чужеродные вкрапления, а отражение усложненной, вобравшей в себя элементы религиозного мышления модели героического мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: