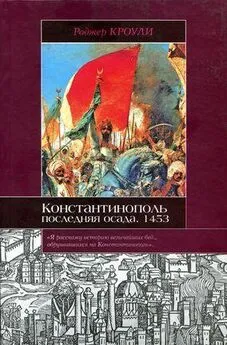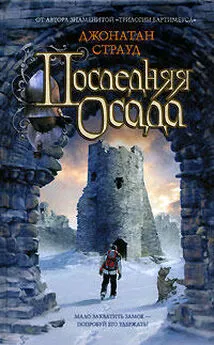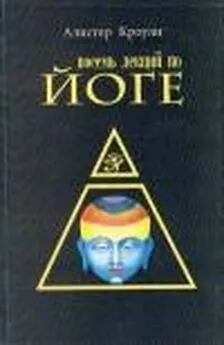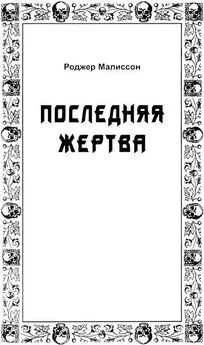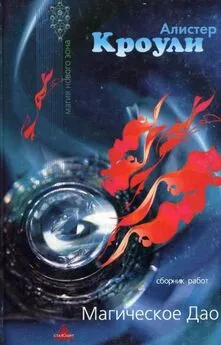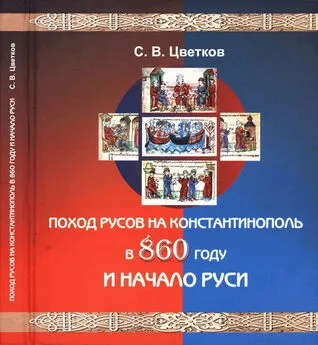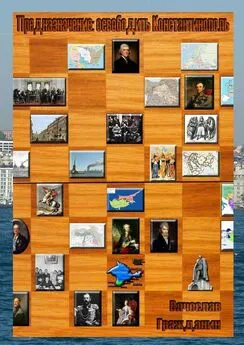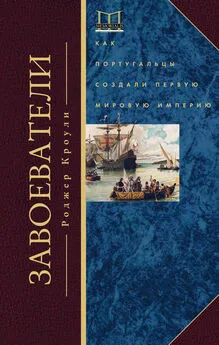Роджер Кроули - Константинополь. Последняя осада. 1453
- Название:Константинополь. Последняя осада. 1453
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «ACT МОСКВА»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9713-9419-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роджер Кроули - Константинополь. Последняя осада. 1453 краткое содержание
1453 год.
Год, когда закончилось существование «Второго Рима» — великой Византийской империи.
Как это было?
Весной 1453 года огромная армия турок-османов двинулась на столицу Византии.
Началась легендарная осада Константинополя, операция, не имевшая себе равных по масштабу за всю историю позднего Средневековья.
Почему историки считают эту осаду прежде всего противостоянием двух выдающихся людей — императора Константина XI и султана Мехмеда II?
Правда ли, что обе стороны действовали в обстановке страха перед близким «концом света»?
И какие обстоятельства решили исход осады Константинополя в течение всего нескольких часов 29 мая 1453 года?
На эти и другие вопросы отвечает в своей увлекательной книге английский ученый Роджер Кроули.
Константинополь. Последняя осада. 1453 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По мере своего продвижения завоеватели смягчали греческие названия захваченных городов в соответствии с тюркским сингармонизмом гласных. Смирна превратилась в Измир, Никея — место, где появился на свет Никейский Символ веры [9] Символ веры — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых православная и католическая церкви предписывают каждому христианину. Сформулирован 1-м (325 г.) Никейским и дополнен 2-м (381 г.) Константинопольским вселенскими соборами. В дальнейшем католическая церковь сделала к Символу веры добавление «филиокве» (filioque), не признанное православием; см. о нем ниже.
, — в Изник; в названии «Бруса» согласные поменялись местами, так что получилось «Бурса». Константинополь, хотя османы в официальных обращениях продолжали называть его арабским наименованием Костантинийе, превратился в повседневной речи турок в Стамбул. Пути этого превращения неясны до сих пор. Может быть, это слово — испорченное «Константинополь», а может быть, оно было образовано совершенно иным способом. Люди, говорящие по-гречески, имели обыкновение называть Константинополь просто «полис» — город. Человек, идущий туда, должен был бы сказать, что он идет «эйс тин полин» — «в город», что для турецкого уха звучало как «Истанбул».
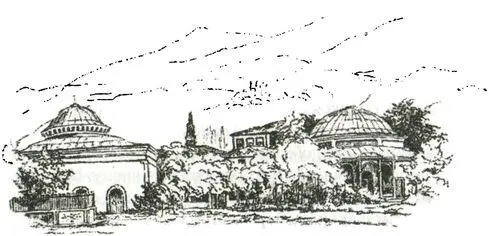
Могилы Османа и Орхана в Бурсе.
Быстрота продвижения османов казалась предопределенной свыше, подобно тому, как случилось с арабами на семьсот лет раньше. Когда великий арабский путешественник Ибн Баттута посетил царство Орхана в 1331 году, на него произвела глубокое впечатление неослабная энергия, бившая ключом в этих краях: «Говорят, он не задерживается ни в одном городе даже на месяц. Он непрерывно борется с неверными и держит их в осаде». Поначалу правители османов именовали себя гази. Они приняли имя воинов за веру, точно закутались в зеленое знамя Пророка. Вскоре они также стали султанами. В 1337 году Орхан оставил надпись в Бурсе, где именовал себя «султан, сын султана, повелителя гази; Гази, сын Гази, повелитель горизонтов, герой всего мира».
То действительно наступила новая героическая эпоха мусульманского завоевания, и сердца воинствующих приверженцев ислама забились сильнее. «Гази — меч Божий, — писал хронист Ахмети около 1400 года, — защитник и прибежище верных. Если он станет мучеником на путях Господа, не верьте, что он умер — он пребывает во блаженстве с Аллахом, он имеет жизнь вечную». Завоевания вызвали самые невероятные ожидания среди свободно разъезжающих повсюду кочевников-грабителей и дервишей-мистиков в рваных плащах, путешествовавших с ними по пыльным дорогам Анатолии. Воздух гудел от пророчеств и героических песен. Они вспоминали, что гласит Хадис о завоевании Константинополя и легенды о Красном яблоке. Когда император Иоанн Кантакузин в 1350 году предложил военным силам Орхана пересечь Дарданеллы, дабы помочь ему в бесконечных гражданских войнах, шедших в Византийском государстве, мусульмане впервые с 718 года вступили на землю Европы. После того как землетрясение разрушило стены Галлиполи в 1354 году, османы сразу объявили происшедшее знамением Божием, ниспосланным мусульманам, и заняли город. Воители и святые люди потоком хлынули в Европу. В 1359 году мусульманская армия появилась у стен Города впервые за шестьсот пятьдесят лет. Зазвучали отголоски пророчества тысячелетней давности. «Почему гази наконец появились? — вопрошал Ахмети. — Потому что наилучшее всегда приходит в конце. Подобно тому как последний пророк, Мухаммед, явился позже остальных, подобно тому как Коран снизошел с небес после Торы, Псалмов и Евангелия, так и гази явились в мире последними». Взятие Константинополя казалось мечтой на грани возможного.
Быстрота продвижения османов не вызывала удивления, а само их появление не казалось кратковременным — здесь видели руку Господа. География, традиция и удача — все способствовало тому, чтобы османы могли извлечь наибольшие выгоды от разрушения Византийского государства. Первые султаны, жившие в непосредственной близости к своему народу и к природе, пристально следили за изменениями политической ситуации и мгновенно использовали открывающиеся для них возможности. Там, где византийцы коснели, отягощенные тысячелетним церемониалом и традицией, османы проявляли способность быстро ориентироваться, гибкость и открытость. Законы ислама предписывали быть милосердными с завоеванными народами, и бремя османского правления было легким, что, как представляется, зачастую выставляло его в более привлекательном свете, нежели европейский феодализм. Не делалось попыток обратить христиан, составлявших ядро населения, в ислам. В сущности, почти все представители династии, имевшей вкус к имперскому владычеству, считали это нежелательным. Согласно законам шариата, нельзя было облагать мусульман большими податями, чем неверных, хотя в любом случае их налоговое бремя не было тяжелым. Крестьяне на Балканах радовались освобождению от весьма тяжкого ига феодальной зависимости. В то же время османы обладали, так сказать, генетической предрасположенностью к созданию собственной династии правителей. В отличие от других тюркских правителей первые султаны никогда не делили владения между потомками, а также не назначали наследника. Все сыновья готовились к правлению, но занять трон мог лишь один — брутальный обычай, казалось, направленный на обеспечение выживания наиболее подходящего претендента. Больше всего жителей Запада удивляло отсутствие у османов наследования через брак. Если византийские императоры, подобно всем правящим домам Европы, отправлялись в изнурительные путешествия с целью заключения династических союзов, дабы узаконить наследование, породнившись с родовитой знатью, то османов это почти не интересовало. Самое главное — отцом султана должен был быть предыдущий султан, а его матерью могла быть наложница или рабыня, возможно, не родившаяся мусульманкой и с точки зрения национальности принадлежавшая к любому из дюжины покоренных народов. Впоследствии такая, если можно так выразиться, генетическая открытость обеспечила османам чрезвычайные возможности.
Из всех новаций, предпринятых османами, ни одна не имела столь важного значения, как создание регулярной армии. Полные энтузиазма отряды воинов-«гази» были слишком недисциплинированны и не могли удовлетворить растущие день ото дня амбиции османских султанов. Осада хорошо укрепленных городов требовала терпения. Для нее требовалось владение определенными методами боевых действий, а также целым рядом специальных ремесел. К концу XIV века султан Мурад I сформировал новые вооруженные силы из невольников, захваченных в странах Балканского полуострова. Наборы в армию проводились с регулярной частотой. Юношей-христиан обращали в ислам и обучали турецкому языку. Отторгнутые от своих семей новые «рекруты» подчинялись исключительно султану. Из них состояла его личная гвардия: «рабы Врат». Они подразделялись на пехоту — «Йени Чери», или янычар, — и кавалерию и вместе представляли собой первую профессиональную оплачиваемую армию в Европе со времен Римской империи. Ей суждено было сыграть ключевую роль в развитии государства османов. Обычай, о котором идет речь, уходил корнями в историю Османской империи: сами турки поступали на военную службу в качестве военных рабов, сражаясь на рубежах мусульманского мира, — их ноу-хау, обеспечивавшее им успех. Однако христиане, наблюдавшие происходящее со стороны, ужасались: им было присуще совершенное иное представление о рабстве, и потому зрелище того, как захваченных в плен детей-христиан заставляют бороться с христианами же, воспринималось ими как жестокое и бесчеловечное. Подобные впечатления сыграли большую роль в формировании мифа о турках-дикарях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: