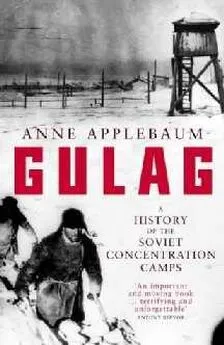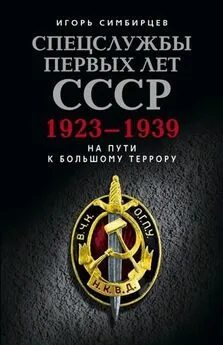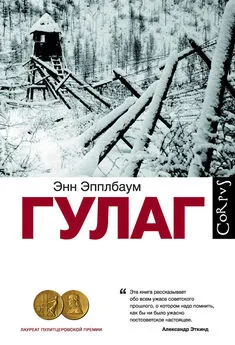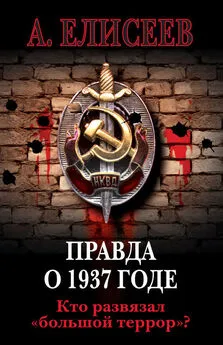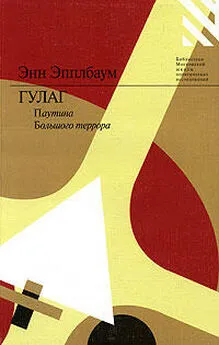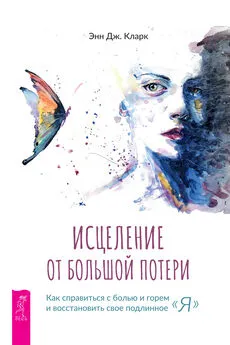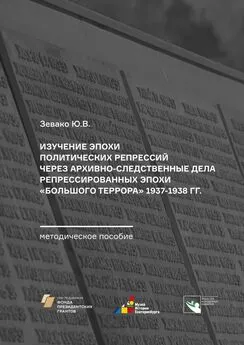Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора
- Название:Паутина Большого террора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-085-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора краткое содержание
Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…
Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.
Паутина Большого террора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Выход в свет «Одного дня Ивана Денисовича» окружен многими легендами, столь многими, что, по словам Майкла Скаммела, биографа Солженицына, здесь порой нелегко отделить факт от вымысла. Путь рассказа к публикации и популярности был долгим и трудным. Вначале Солженицын передал рукопись Льву Копелеву — московскому литератору и своему лагерному товарищу. Тот отнес ее в журнал «Новый мир», где первой ее прочитала редактор А. Берзер. Восхитившись рассказом, она передала его главному редактору Александру Твардовскому.
Твардовский начал читать рукопись поздно вечером, лежа в постели. Первые страницы произвели на него такое впечатление, что он встал, оделся и провел за чтением всю ночь. Утром он бросился в редакцию, потребовал срочно перепечатать рукопись, чтобы можно было показать ее друзьям, и все время говорил о рождении нового большого таланта. Так, по крайней мере, рассказывал сам Твардовский. Позднее Солженицын в письме поблагодарил Твардовского:
«Главную радость „признания“ я пережил в декабре прошлого года, когда вы оценили „Денисовича“ бессонной ночью» [1779] Scammell, Solzhenitsyn, с. 415.
.
Рассказ как таковой довольно бесхитростен: один день жизни рядового заключенного. Иному современному читателю, даже в России, нелегко понять, почему он произвел такой фурор в советском литературном мире. Но для тех, кто прочел рассказ в 1962-м, он стал настоящим откровением. Здесь были не расплывчатые слова о «репрессиях» и о «возвращении», как в некоторых других книгах того времени, а прямое описание лагерной жизни. Публично эта тема в СССР дотоле не обсуждалась.
При этом стиль Солженицына — в особенности использование лагерного жаргона и то, как он описывал тяготы и однообразие лагерной жизни, ошеломляюще контрастировали с обычной пустопорожней фальшью советской художественной литературы. Социалистический реализм, который был официальной литературной доктриной, был вовсе не реализмом, а литературным воплощением сталинской политики. О местах заключения если и писали, то не правдивее, чем во времена Горького. Если в советском романе появлялся вор, то он исправлялся и становился советским человеком. Герой мог страдать, но в конце концов партия показывала ему выход. Героиня могла лить слезы, но, поняв важность Труда, находила свое место в обществе.
«Иван Денисович», напротив, — рассказ подлинно реалистический. В нем нет ни казенного оптимизма, ни примитивной морали. Страдания его героев напрасны. Их труд тяжел и изнурителен, и они стараются трудиться как можно меньше. Не говорится ни о руководящей роли партии, ни о грядущей победе коммунизма. Честность, столь необычная для советского писателя, — вот что восхитило Твардовского: он сказал Копелеву, что в рассказе нет «ни капли фальши». Именно поэтому рассказ трудно было переварить многим читателям, особенно ответственным работникам. Даже некоторым редакторам «Нового мира» его откровенность пришлась не по нраву. Один из них писал:
«Угол зрения: в лагере ужасно и за границами лагеря все ужасно… печатать — невозможно, все же показывает жизнь с одного боку». Людей с упрощенными представлениями рассказ ужасал отсутствием ясных идеологических выводов и «аморальностью».
Твардовский очень хотел его напечатать, но понимал, что если просто отдать «Ивана Денисовича» в набор и отправить в цензуру, она завернет его мгновенно. Поэтому он постарался, чтобы о рассказе стало известно Хрущеву, рассчитывая, что тот захочет использовать его как оружие в борьбе с политическими противниками. Как пишет Майкл Скаммел, Твардовский написал к рассказу предисловие, разъясняющее его полезность именно с этой точки зрения, а затем начал давать его людям, через которых, как он надеялся, «Иван Денисович» должен был дойти до самого Хрущева [1780] Там же, с. 423–424.
.
После долгих перипетий, многих споров и некоторых вынужденных поправок (Солженицыну пришлось убрать места, рисующие одного положительного героя в комическом свете, и вложить в его уста отрицательную характеристику бандеровцев) рассказ, наконец, прочли Хрущеву. Он одобрил и даже сказал, что рассказ написан в духе XXII съезда партии, возможно, имея в виду, что он наносит удар по его врагам. Наконец, в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год «Один день Ивана Денисовича» был опубликован. «Птичка вылетела! Птичка вылетела!» — радовался, по словам Солженицына, Твардовский, держа в руках сигнальный экземпляр.
Вначале критика расточала рассказу похвалы — не в последнюю очередь потому, что он соответствовал тогдашней генеральной линии партии. В. Ермилов в «Правде» выразил уверенность в том, что
«борьба с последствиями культа личности Сталина… будет и в дальнейшем способствовать появлению произведений, отличающихся все более глубокой народностью, отражающих нашу современность, созидательный труд народа».
К. Симонов в «Известиях» написал, что Солженицын показал себя истинным помощником партии в деле борьбы с культом личности и его последствиями [1781] Там же, с. 448–449; «Правда», 23 ноября 1962 г.; «Известия», 17 ноября 1962 г.
.
Совсем иным был отклик рядовых читателей, которые в первые же месяцы после публикации в «Новом мире» обрушили на Солженицына поток писем. Бывших заключенных, писавших ему отовсюду, мало интересовало соответствие рассказа новой линии партии. Их радовало и трогало то, что «Иван Денисович» отражал их собственный опыт и переживания. Люди, боявшиеся даже близким друзьям шепнуть слово о том, что с ними было, испытали чувство освобождения. Одна женщина писала:
«…Обильные слезы заливали мое лицо, и я их не вытирала, я не стыдилась их, ибо это все, что уложилось в несколько страниц журнала, мое, кровное мое, изо дня в день мое во все 15 лет пребывания в лагере».
Вот выдержки из другого письма Солженицыну:
«…Спасибо Вам, дорогой друг, товарищ и брат!.. Читая твою повесть, я вспомнил Сивую Маску, Воркуту… морозы и пурги, унижения и оскорбления… Читал, плакал — все знакомые лица, как будто сказано о моей бригаде… Еще раз спасибо! Продолжай в том же духе — пиши, пиши» [1782] Scammell, Solzhenitsyn, с. 485; Благов, с. 509–511.
.
Но самой сильной была реакция тех, кто все еще был лишен свободы. Леонид Ситко узнал о публикации, отбывая второй срок в Дубравлаге. Когда номер «Нового мира» появился в лагерной библиотеке, начальство не выдавало журнал заключенным два месяца. Наконец они раздобыли его и устроили чтение вслух.
«…целая гурьба зэков замерла, не дышала, ловила все на лету…» —
вспоминает Ситко.
«Когда было прочитано последнее слово, наступила мертвая тишина. Две-три минуты и — взорвалось! В каждом — свое, больное, пережитое. <.> В махорочном дыму говорили без конца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: