АНРИ ВАЛЛОН - История рабства в античном мире. Греция. Рим
- Название:История рабства в античном мире. Греция. Рим
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
АНРИ ВАЛЛОН - История рабства в античном мире. Греция. Рим краткое содержание
Сочинение французского историка и политического деятеля Анри Валлона (1812-1904) посвящено истории рабства в античном мире. Автор детально исследует вопросы об источниках рабства, положении рабов и использовании их труда, отпуска на волю, об их восстаниях, о влиянии рабства на социальные отношения и многое другое…
Богатство и систематизированность фактического материала, широта освещаемых тем делают труд А. Валлона интересным и актуальным и для современного читателя.
История рабства в античном мире. Греция. Рим - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако строгость этих логических выводов на практике могла быть значительно смягчена. Иногда рабам разрешались брачные союзы. Один закон Солона, вводивший для рабов целый ряд других ограничений, не препятствовал им вступать в подобные отношения. Ксенофонт, который в общем осуждает этот прием и считает, что дурные рабы станут от этого еще хуже, наоборот, одобряет его по отношению к верным рабам как одно из средств закрепить еще сильнее узы их преданности; а это предполагает известного рода фиксацию, если не легальную, то по крайней мере условную, в отношениях между мужчиной и женщиной, между отцами и детьми, т. е. некоторую форму брака, призрак семьи. Если в этом можно верить свидетельству Плавта, такие браки, неслыханные в Риме и, как можно было бы предположить, не имеющие прецедентов в других странах, практиковались в Греции, в Карфагене, в древнейших поселениях Апулии; и эти свадьбы рабов, продолжает он, устраивались там с большей заботливостью, чем браки свободных. Это последнее выражение есть дань сатире; но важно уже и то, что не все в этом отрывке является сплошной иронией. Мы уже видели в гомеровскую эпоху, что хозяин награждает верного слугу, давая ему подругу жизни, и Ксенофонт свидетельствует о непрерывности этого обычая, санкционируя его своим одобрением. Казалось, что интересы хозяина встречали тут больше гарантий, когда раб брал на себя целиком тяготы ответственности за ту или другую часть хозяйства, за ферму, за стада; надзор и различные заботы по управлению лучше распределялись между мужчиной и женщиной, связанными между собой в браке, и это точно так же было и в Риме, как мы увидим позднее. Разница только в том, что в Греции такой союз мог быть поставлен под охрану определенных форм, в подражание обычному браку. Точно так же раб в «Хвастливом воине», в сцене, изображающей, как он одурачивает своего хозяина, говорит о своей помолвке и своем будущем браке с горничной предполагаемой метрессы солдата. Плавту пришлось прибегнуть к этим правовым формам, чтобы представить более торжественным, и, следовательно, более комическим брак фермера с мнимой Кази-ной, формам, невозможным в Риме для этого сословия, почему ему и пришлось вперед их оправдывать, чтобы освободить от всех законных сомнений грубоватую веселость своей публики.
Наряду с зачатками семейного права обычаи Греции иногда давали рабам известные права на собственность. Разумеется, это не было неизменным правилом: скупой, который, конечно, не составлял в этом случае исключения, не имеет другого способа, чтобы вознаградить себя за разбитое рабом блюдо, как вычесть его стоимость из предметов первой необходимости у несчастного, уменьшая ему порцию пищи. Но исключения из этого были по меньшей мере достаточно часты. Так (главным образом в городе), имели место случаи, когда рабы, отдаваемые в наем, получали от хозяина часть его арендной платы на частичное покрытие издержек своего существования. То, что раб экономил на предметах первой необходимости, составляло фонд его благоприобретенной собственности, его пекулий, который мог увеличиваться различными способами. Старались стимулировать его рвение по дому и его активность к труду, предоставляя ему часть благ. Так, управляющему имением предоставлялся лично для него известный участок земли, пастуху давали овцу. В «Горшке» Плавта старая служанка скряги владеет в качестве собственного имущества… петухом. Равным образом рабов, используемых на многочисленных работах в ремесле и торговле, пытались иногда материально заинтересовать в работе – в вещах, которые они должны были изготовлять или которыми им приходилось торговать. К этим продуктам труда прибавьте те маленькие доходы, которые получались от друзей дома и о которых говорит Лукиан в своей статье «О наемных писателях»; он дает там несколько образцов, прило-жимых как к Греции, так и к временам Империи. Раб вознаграждался в самых различных случаях – при приглашении на обед или при каком-либо другом выражении милости своего господина; ему платили за хорошее известие, за то влияние, которое он оказывал на хозяина, участвуя в назначении или выборе подарков. Прибавьте еще то, что рабам удавалось перехватить самим благодаря щедрости или небрежности хозяина, Когда хозяином был молодой мот, который расточал свое состояние, то «быть скромным – это значило вредить себе без пользы для него», – говорит один из персонажей Менандра. Раб старался получить свою долю из того, что погибло в бездонной пропасти, увеличивая при случае издержки вдвое, крадя, грабя, отхватывая часть добычи. Так, Гета в «Грубияне» проводит как раз ту политику, которую я изложил выше, равным образом и честный Стасим в «Трехгро-шевом», после того как он напрасно старался поставить преграду расточительности своего молодого хозяина, кончает тем, что решает сам использовать обстоятельства и получить свою часть, как собака со стола. И он даже не очень старается скрыть приписки в тех счетах, которые он представляет ему: «А то, что я украл? Гм, да это самая большая часть расхода!».
Оставляя в стороне эти мошенничества, хозяин с удовольствием смотрел на то, что сбережения его рабов росли: ведь частное имущество раба, как и сам раб, были имуществом его господина. Обычно он не трогал сбережений рабов – частое злоупотребление этим, уничтожая доверие, заставило бы иссякнуть и самый источник. Но по букве закона хозяин имел на них право собственности, и в отдельных случаях к этому прибегали все еще довольно часто. «Увы! – восклицает Дав, подсчитывая вместе с товарищем по рабству свои средства, которым угрожала необходимость взноса на свадьбу его господина, – увы! какая несправедливость судьбы, что более бедные должны давать более богатым!» Эти сбережения, которые он так нищенски собирал грош к грошу, отнимая их у своего рациона, крадя их у себя самого, его хозяюшка обдерет в один прием, не считаясь с теми страданиями, которых они стоили. Другой подарок, которым их обяжет обоих Гета, будет, когда у нее родится сын; затем, когда ему будет год, когда он будет введен в круг семьи. Но по крайней мере в промежутках между этими событиями рабы могли располагать своими средствами и для того, чтобы купить самому себе раба, и для того, чтобы сберечь себе, как мудрый Стасим, некоторые средства, которые могли бы оградить его от последствий безумств своего господина, и для того, чтобы подражать ему в сумасбродствах и в тягостный ход своей трудовой жизни вплести несколько дней опьянения и удовольствий.
В силу законов лишенные всех естественных человеческих прав – прав брака, семьи и собственности, – они тем более были лишены гражданских прав и права участия в религиозных обрядах. Рабы были исключены из общества, но так как они должны были жить здесь, чтобы обслуживать его, их старались выделить иногда рядом внешних признаков: грубой одеждой, бритой головой. Но в Афинах эти правила соблюдались не настолько строго, чтобы рабов можно было отличить по внешности от граждан любого класса: от бедных, которые зачастую были одеты в ту же одежду, как и они, от богатых, подражать которым во внешнем виде они так любили, употребляя духи, вопреки постановлениям Солона, пробираясь вперед, не уступая дороги свободным и предаваясь оргиям, изображение которых в римском театре вызывало возмущение. «Вы, конечно, будете удивлены, – говорит Стих у Плавта, – видя, как эти низкие рабы пьют, любят и участвуют в пирах своих хозяев; все это нам дозволено, должны мы помнить, в Афинах». И эти слова римского поэта находят себе доказательства и в других случаях. Эсхин в речи против Тимарха выводит некоего Питтолака, государственного раба Афин, богатого развратника, игрока, устраивавшего петушиные бои; и Ксенофонт в общих выражениях рисует нам такой же портрет: «Может быть, будут удивляться, что позволяют рабам жить в роскоши, а некоторым даже пользоваться великолепием; но этот обычай, однако, имеет свой смысл. В стране, где флот требует значительных расходов, пришлось жалеть рабов, даже позволить им вести вольную жизнь, если хотели получить обратно плоды их трудов». Таким образом, можно поверить Плавту, и если он несколько и преувеличивает, то много правды в «Дивертисменте», прибавленном к «Стиху», и в изображении того раба, который является главным действующим лицом в пьесе «Перс». Токсил, раб, управляющий домом, в отсутствие своего господина выкупив и отпустив на волю рабыню, которую он любит, имеет паразита, предоставляющего к его услугам свою собственную дочь, свободную гражданку; последняя участвовала в их плутнях, а затем продана бесчестному купцу с опасностью для своей чести. Раб-управляющий организует и руководит всеми этими хитрыми планами с наглостью человека, захватившего права хозяина в доме; свои удачи он сопровождает оргиями, в которых принимают участие его сотоварищи по рабству, чтобы посмеяться над этим гулякой и выпить за счет отсутствующего хозяина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


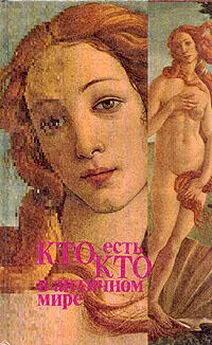



![Невилл Форбс - История Балкан [Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция от становления государства до Первой мировой войны] [litres]](/books/1061149/nevill-forbs-istoriya-balkan-bolgariya-serbiya-gre.webp)

