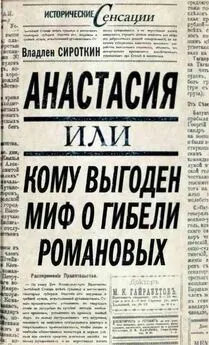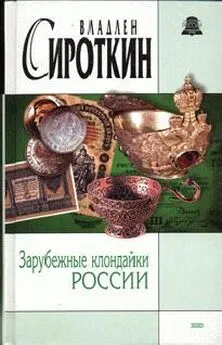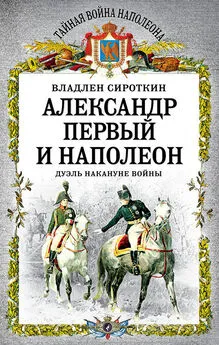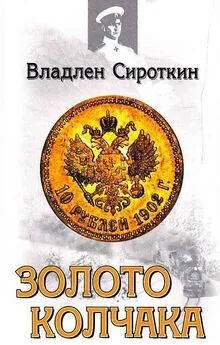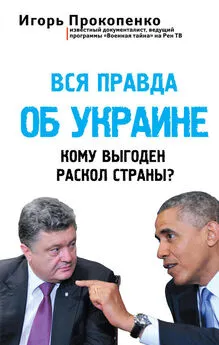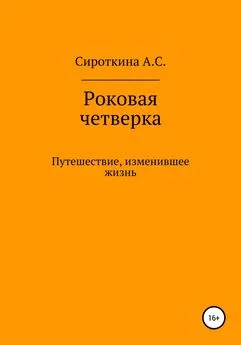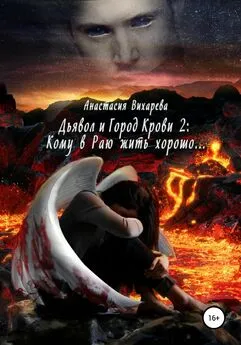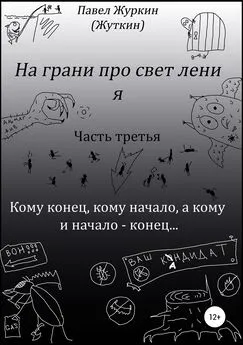Владлен Сироткин - Анастасия, или Кому выгоден миф о гибели Романовых
- Название:Анастасия, или Кому выгоден миф о гибели Романовых
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо: Алгоритм
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-39799-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владлен Сироткин - Анастасия, или Кому выгоден миф о гибели Романовых краткое содержание
Почему нам не говорят правду о царской семье? Таким вопросом задался автор этой книги профессор Владлен Сироткин. Он в ходе своего исследования выясняет, что в основании той чудовищной лжи, которую подают почтеннейшей публике как чистую правду, лежит так называемое «царское золото» — сотни миллиардов долларов. Именно эти сокровища стали причиной того, что от нас скрывают подлинную судьбу императора и его семьи.
Анастасия, или Кому выгоден миф о гибели Романовых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Была еще в Белобережских пустыньках, там иконы Троеручицы, Корсуньской великой, Печерской. Особенно же мы почитали Казанскую, Иверскую, Донскую иконы.
В то время православие в России было истинное, нигде в других странах так не почитали святых, и Господь возлюбил Россию за благочестие.
Дела без веры мертвы, и вера без дел мертва.
Дела были: нищих кормили, странников принимали, бедным и сиротам помогали. Ездили в приюты, читали детям хорошие книжечки, раздавали платочки, цветные открытки, конфеты и маленькие иконочки. У старших были, конечно, более значительные дела, у мамы, так же, как и у нашей тети Елизаветы Федоровны. Я сейчас думаю, что тетя была, наверное, более сильная духовно, чем мама, — приняла монашество. Тетя умная женщина, разбиралась в политических делах, с ней советовались. И мы, дети, обращались к ней за советом. Однажды я просила тетю определить в приют девочку-сироту, с которой познакомилась в благотворительном обществе. Ее имя Фенечка, Феодосия. Это была симпатичная кроткая девочка, тетя определила ее в пансион. Когда Фенечке исполнилось семнадцать лет, наши знакомые взяли ее к себе, и вскоре она вышла замуж за хорошего человека, учителя греческого языка, стала семейной женщиной.
Добрыми делами занимались и по предложению мамы. Ходили продавать цветочки для солдатиков и больных. Цветы нам приносили по распоряжению мамы. Алешенька продавал особенные, искусственные цветочки. Продавали и рисуночки-вышивки, все по одному рублю. Я продавала на пятьдесят или сто рублей в день. Старшие сестры не участвовали в этом.
Мама очень религиозная, часто бывала в монастырях и брала нас, младших детей, а чаще меня одну. Никогда не оставалась там на ночь, хотя и советовали, возвращалась домой.
В Троице-Сергиевой Лавре были раз десять, очень почитали преподобных Сергия и Никона. По-особому государыня относилась к оптинским старцам. Великие были старцы! Еще — святому из немецких высокочтимых.
На первом месте — святой Серафим Саровский, которого она просила о даровании ей сына. Известно о письме этого святого государю, я слышала это от старших. Старец еще при жизни в начале девятнадцатого века написал письмо нашему отцу, велел передать, когда его будут канонизировать, царю. В письме старец предсказывал, что государю следует быть осторожнее, дальновиднее и чтобы берег здоровье.
Из наших современников мама обожала Иоанна Кронштадтского. Батюшка ходил в черном, темно-синем, коричневом одеянии. На Рождество он дарил нам гостинцы в холщовых мешочках: постные монастырские конфетки, елочные игрушки в виде святых ангелочков. Не помню случая, чтобы принес пустые мешочки. Один раз в месяц приезжал и беседовал с нами. Помню его добрые глаза — вот человек, которого мы любили, старались хотя бы прикоснуться к нему, чтобы благодать перешла на нас. Он был славный и приятный лицом. Алешенька почему-то его не любил, как мне кажется, не то чтобы избегал, но когда мы припадали к батюшке, делал гримаски и говорил, что мы глупые девчонки, липнем к батюшке, — осуждал или ревновал. К Иоанну Кронштадтскому — вот к кому я любила подходить под благословение.
На Рождество я раньше других ставила на свой столик елочку и украшала миниатюрными игрушками, по этой причине в семье меня называли «елочкой».
Я не носила ничего, кроме крестика. Когда придумали восьмиконечную звезду, надела ее. Были еще фарфоровые иконочки, сестры носили их, я — нет. У меня хранилась маленькая фарфоровая иконочка равноапостольной Нины, такая красивая, что не захочешь — возьмешь. Алексей носил свою фарфоровую иконочку в кармане, говорил, что она охраняет его от бед и напастей.
Часто во дворец приходили странники и нищие, приходили каждый день, их помещали внизу, кормили и давали деньги на дорогу. Некоторые оставались ночевать. Когда приходили особенно благочестивые, горничные сейчас же сообщали маме, и она говорила: «Пусть придет». Такой был порядок, обычай. Матушка Херувима, старшая над монашками, ей было семьдесят лет, она высокой жизни, говорила государыне, чтобы принимала Божиих людей и подавала нищим. Она учила государыню, и мама слушала ее.
Наше духовное просвещение состояло и в чтении Жития святых, Евангелия, Псалтири, божественных стихов. Известны слова святого Иоанна Златоуста, что никакая книга так не славит Бога, как Псалтирь. Если сегодня не смог почитать псалмы — почитай завтра вдвойне. У меня было стихотворное изложение псалмов, переложения, составленные Жуковским и другими благочестивыми поэтами. Закон Божий преподавал священник, читал по-русски и по-церковнославянски.
Молитва присутствовала в нашем доме постоянно, утром и вечером молились у себя в комнате. За столом не молились, но крестились. Если на обеде присутствовала матушка, она крестила стол, государю это нравилось. У нас часто бывали матушки, монахини.
В последние годы перед революцией получил распространение спиритизм, иногда во дворце устраивались спиритические сеансы: был человек, медиум, имелся круглый столик без гвоздей. Но в сеансах участвовали второстепенные лица, некоторые придворные, Вырубова например. Государь и мама этим не интересовались, но и не запрещали. Часто во время войны вызывали души погибших.
Мы, дети, гадали на Святках: зажигали бумагу — и к стене — что покажет. Гадали по зеркалу и на картах. Предсказания были на негодные времена. Приезжали духовные лица, митрополиты, епископы. Чаще других — Распутин, словно он епископ какой. Григорий говорил о победоносном завершении войны, что молится и что по его молитвам все будет благополучно. Он государыню очаровал, загипнотизировал. Этот противный Распутин, конечно, тоже говорил ей: «Веруйте, молитесь…» Распутин показывал себя блаженным, но это не так, его бы причислить к мошенникам. Говорили, он исцелял, но мне об этом неизвестно. Правда, он останавливал кровь, это я видела. Распутин внушал мне ужас, я избегала его, он представлялся мне извергом. Потому мама обижалась на меня. Сейчас говорят, что мы, девочки, писали ему письма. Я не писала, и думаю, такой глупости никто из нас не делал.
Мама
Моя мама, государыня Александра Федоровна, ведет свое происхождение от германского рода Гессен-Дармштадтских, и потому требовала к себе почтительного и благородного отношения. В юности мама жила у своей бабушки королевы Виктории, и ей нравились обычаи и язык англичан. Бабушка, милая, добрая для всех, не делала различия между богатыми и бедными, принимала всех — такая христианка. Маме было хорошо в Англии, ей давали свободу, у нее остались приятные воспоминания об Англии. В юности государыня училась в лучшем великосветском пансионе в Оксфорде, семь лет ей преподавали педагогику, этикет, рукоделие. Воспитанницы пансиона много занимались музыкой, танцами, устраивали игры. Несмотря на то, что мама провела там несколько лет, она ни с кем так и не подружилась. Приятельницы были, но подруги — ни одной. В Англии мама понравилась датчанину графу Доренкорту, который просил ее руки, но тогда маме уже нравился государь, и она отказала графу. Ее, конечно, смущало, что государь невысокого роста, но он был такой добрый, что не захочешь — полюбишь. Полюбила и Россию, хотя русский язык ей трудно давался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: