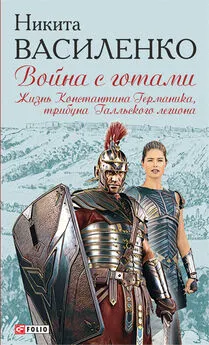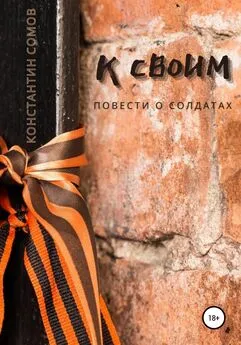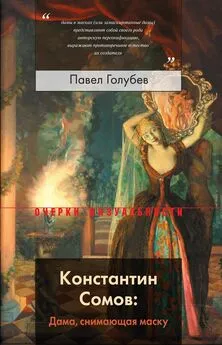Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После войны советское правительство приложило дополнительные усилия, чтобы уничтожить всякие оставшиеся отметки или монументы, которые захватчики могли воздвигнуть в честь своих погибших, — сетует бывший фашистский офицер. — Сейчас те, кто пал на обширных просторах на Востоке, лежат в безымянных могилах».
Сокрушается о судьбе могил пытавшихся поработить Россию людей и автор книги «Генералы третьего рейха» (созданной при вспомогательной роли Джина Мюллера), наш союзник в той войне, известный американский историк Сэмюэл У. Митчем.
Вот как он пишет об этом в главе, посвященной жизнедеятельности крупного фашистского палача (до начала Второй мировой войны занимавшего должность начальника первого немецкого концлагеря Дахау, а затем главного инспектора концлагерей и командира охранных подразделений СС. — Авт.), командира панцергренадерской дивизии СС «Мертвая голова» Теодора Эйке, погибшего 26 февраля 1943 года в боях за Харьков:
«Гиммлер велел временно перенести останки Эйке на Хегенвальдское кладбище в Житомире, чтобы не дать им попасть в руки Советов. И все же, когда Красная армия весной 1944 года освободила Украину, останки шефа «Мертвой головы» эсэсовцам забрать с собой не удалось. В обычае Советов было сравнивать с землей захоронения при помощи бульдозеров или каким-либо другим образом осквернять могилы немецких солдат, и можно почти с уверенностью сказать, что с могилой Эйке произошло то же самое».
Барнаулец Дмитрий Каланчин:
«Осенью 43-го недалеко от деревни, где мы тогда жили, в перестрелке с нашими разведчиками были убиты трое отставших от своих немцев. Могилой им стала старая силосная яма. Так безвестными они и остались. Ну, того не жалко. Злоба у нас на них немалая была. Что творили-то»
Из письма матери и бабушки на Восточный фронт сыну и внуку обер-лейтенанту Рихарду Ланге. Гермиц, 30 июня 1941 года:
«Кинотеатры теперь переполнены с раннего утра до самой ночи. Каждый немец хочет насладиться зрелищем побед в России и увидеть поставленного на колени врага. Даже я, добрая и уже немолодая женщина, истовая и примерная католичка, получала огромное удовлетворение при виде взятых в плен и тысячами бредущих по дорогам этих преступных типов, и особенно при виде их бесчисленных трупов. Эту хронику я смотрела по 3–4 раза. О, эти страшные, преступные, тупые лица, по всей видимости — жиды. А потом еще женщины с ружьями и жалкие изголодавшиеся дети, больные и зараженные паразитами. Имеют ли эти твари и их преступное государство право на жизнь»
Эти «твари» пошли на страшные жертвы и сумели отстоять и свое право на жизнь, и право на свободу и независимость их государства. И по вполне понятным причинам хотели, чтобы и следа на их земле не осталось от той «цивилизованной» нечисти, которая пришла на нее жечь, грабить и убивать. Кто из нас, потомков, возьмется их за это судить.
Словарь войны
Окопный сленг — солдатский язык Великой отечественной — был афористичным, точным, истинно народным и частично сохранился даже до наших дней.
Официальные названия оружия и боевой техники солдаты, как правило, не использовали, применяя для этого собственные наименования, чаще всего ласковые или шутливые, грубоватые, но тоже, как правило, произносимые с любовью и уважением.
Отдельные виды вооружения имели сразу несколько наименований, и одну из лидирующих позиций занимал здесь самолет По-2. Наиболее известное его имя «кукурузник» сохранилось до наших дней, однако кроме этого его именовали «огородником», «совой» (за ночные полеты на бомбардировки), а на Волховском фронте называли почему-то «Никита-приписник». Позже, по воспоминаниям фронтового журналиста Бориса Бялика, когда он превратил свою слабость (малую скорость) в силу и стал легким ночным бомбардировщиком, его с дружеским юмором прозвали «королем воздуха», или сокращенно КВ.
Кстати сказать, наземный собрат «короля воздуха» — советский тяжелый танк «КВ» (Клим Ворошилов) гитлеровцы весьма уважали и называли «черным мамонтом». Свой вклад в копилку имен По-2 внесли и немцы. Они называли его «лесник», «рус-фанер» (поскольку он имел деревянный фюзеляж), а также «зингер». «Древние русские бипланы мы называли «зингеры», — вспоминал после войны один из солдат вермахта. — Потому что считали, что их моторы звучали как старые швейные машинки».
Ну, древний, не древний, а за сбитый По-2 в немецкой армии полагался незамедлительный отпуск на родину, что говорит само за себя.
Уважительно именовали враги и наш знаменитый штурмовик Ил-2 — «черная смерть», или менее громко — «руссише штукас» (по аналогии с немецким пикировщиком Ю-87 — «штука»). Советские пехотинцы действительно любимый ими самолет (ведь именно «Илы» непосредственно поддерживали с воздуха наши войска и часто несли при этом большие потери и от огня с земли, и от вражеских истребителей. — Авт.) именовали шутливо-любовно «горбыль» или «горбатый» — за конфигурацию корпуса.
Немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87 наши солдаты называли либо «лаптежниками» (за неубирающиеся во время полета шасси), либо «музыкантами» — на этих самолетах была установлена специальная сирена, которая при пикировании машины издавала душераздирающий вой.
Доставлявший немало неприятностей нашим наземным войскам бронированный самолет-разведчик «Фокке-Вульф-189» наши солдаты называли «фриц в оглоблях», а чаще — «рама» (имея двойной фюзеляж, с земли он очень походил на это столярное изделие). Ошибочно «рамой» называли и другой самолет-разведчик-корректировщик «Хеншель-126», имевший, кстати, и собственное имя — «костыль».
Для своего же оружия наши солдаты имена придумывали, разумеется, получше. К примеру, тяжелые самоходные орудия получили солидное имя «зверобои».
«Когда под Курском впервые появились немецкие «тигры» и «фердинанды», — вспоминал участник боев в Сталинграде и на «Огненной дуге» барнаулец Николай Аверкин, — их в лоб не могли пробить никакие наши орудия. Беды от них было много, насколько помню, только в конце войны в тяжелых боях у озера Балатон появились наши самоходные орудия, снаряды которых весом в 32 килограмма не просто прошивали «тигры», а башни с них срывали. Называли их наши бойцы «зверобоями». Имеющие меньший калибр самоходки именовались не так значительно. САУ (самоходно-артиллерийская установка) — «саушка», СУ (самоходная установка) — попросту и любовно — «сучка». (Насколько известно автору, такое название самоходок сохранилось в армейском сленге и до наших дней. По крайней мере именно так называл свою самоходку участник штурма Грозного бывший заряжающий яровчанин Евгений Бузлаев). Самая же маленькая СУ-76 частенько именовалась «клизьмой».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

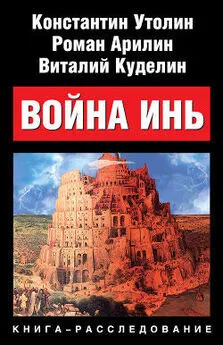
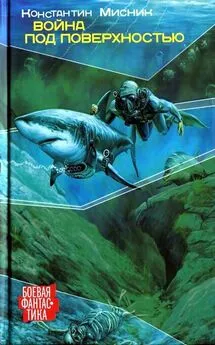
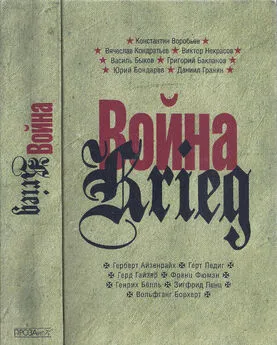

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)