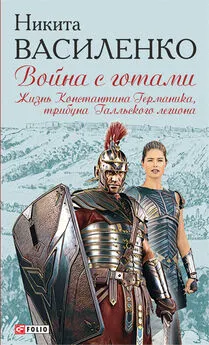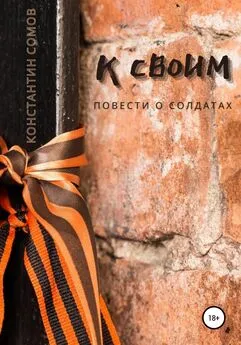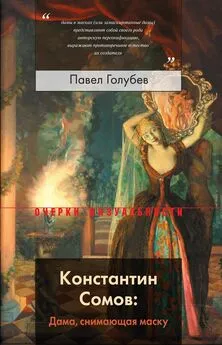Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кроме снабжения продовольствием себя, немцев и полицаев селянам приходилось кормить и партизан, а также всех тех, кто, отсиживаясь в лесах, мародерствовал под маской «народных мстителей». Таковые тоже имелись. Так же, как имелись и провокаторы, встречи с которыми далеко не всегда заканчивались благополучно, как это произошло с добросердечной крестьянкой села Финев Луг Ленинградской области Л.Е. Борисовой:
«В деревне стали появляться партизаны. Как-то заходит один ко мне: «Я партизан, голодный» Жаль его, да нет ничего, кроме лепешек из лебеды. «Вот возьми», — говорю. Взял он две лепешки, ушел. А наутро меня в комендатуру вызвали. «Партизан кормишь?» — спрашивают. Я отнекиваюсь: знать, мол, никаких партизан не знаю. «А это что?» — спрашивает немец через переводчицу и протягивает мои лепешки. А из другой комнаты вчерашний «партизан» выходит. «Я ведь у вас был, не так ли?»
Тут уж я не выдержала: «Ах ты гад, — говорю, — бессовестный! Голодного обобрал, да еще и настукал! Ну уж попомнится тебе это — Господь не оставит такую подлость безнаказанной!» Совсем не думала тогда, как мне это аукнется. И несдобровать бы, конечно, только переводчица местная была, и всех моих слов не перевела. «Партизан» съежился, как сморчок, и вышел. А меня отпустили»
Надо сказать, что у снабжавшихся продовольствием сразу из нескольких источников партизан дела с едой обстояли довольно неплохо. Так, командир действовавшей в Белоруссии 222-й партизанской бригады М.П. Бумажков докладывал своему командованию: «Средний дневной рацион партизан составлял: хлеба печеного 1 кг, крупы — 50 г, мяса — 300 г, картофель особо не нормировался». Похожие цифры были и в отчетах других бригад.
Продовольствие партизанами добывалось как за счет добровольных и принудительных заготовок в деревнях, так и при нападении на немецкие и полицейские гарнизоны, подсобные хозяйства, обозы. Правда, и в этом случае хлеб по большому счету был все тем же, крестьянским, ранее реквизированным у них гитлеровцами.
Бывшая жительница поселка Пудость Ленинградской области Л.Ф. Дубровская (Лукина) вспоминала:
«Деревня была оккупирована, но немцы появлялись только днем. Иван Федорович Гусаров был до войны председателем колхоза, теперь считался старостой. Днем немцы придут: «Матка, ко-ко-ко» Яиц требуют. Ночью партизаны приходят за хлебом. «Как же мне быть?» — спрашивает дядя Ваня. «Ты им давай, что просят, — отвечают партизаны, — а нам только хлеба».
Однако война есть война, и во время карательных экспедиций в районы действий партизан лесным жителям приходилось основательно голодать. Комбриг А.Я. Марченко вспоминал о блокаде, из которой его отрядам зимой и весной 1943 года приходилось выходить в Белоруссии: «Питались в это время в основном печеной картошкой, изредка мясом, варили в немногих уцелевших котлах суп с немолотой рожью вместо крупы».
«Партизаны научили нас, как добывать продукты, — вспоминал после войны переживший ужас окружения в Мясном Бору бывший командир батареи 305-й стрелковой дивизии А.С. Добров. — Командир отряда говорил: «Вы с голоду умрете, если будете у местных жителей просить поесть. Идите с моими ребятами, они вас научат». Зашли в дом. На койке лежит седой дед, якобы больной. Хозяйка сказала, что у них ничего нет. Партизан подходит к кровати и говорит: «Ну-ка, дедушка, подвинься». А под дедом выпеченный хлеб, много булок. Часть взяли.
Зашли в другой дом — в чулане мука. Партизан подзывает меня и говорит: «Смотри, вот мешки с мукой грубого помола и мука по цвету сероватая — это мука хозяина, а вот мешок с мукой белой, мелкого помола — эту муку он наворовал из горящих складов Новгорода, когда наши отступали. Эту муку, как государственную, мы и берем». Хозяин молчит. Муку унесли».
Пришло время фашистам убираться восвояси, и летом 1943 года прозвучал лозунг Центрального штаба партизанского движения: «Ни грамма хлеба, ни одного зерна не дать немцам!». В связи с этим орган Старобинского райкома Компартии Белоруссии газета «Советский патриот» писала: «Каждый крестьянин должен сейчас планировать, как лучше убрать свой урожай и где его лучше спрятать, чтобы он не достался злому врагу фашисту. Лучше свой хлеб уничтожим, когда это надо, но не дадим его врагу». Но так легко и говорить, и писать, когда ты сам этот хлеб не растил. Как и летом 1941 года, крестьяне не испытывали никакого желания сжигать на корню выращенный своими руками хлеб и уничтожать скот. Этим занялись гитлеровцы.
«Вскоре после того, как было приказано, мы ушли из этой деревни, нам встретилось стадо коров, — пишет в своей книге об осеннем отступлении немецкой армии в 43-м из-под Смоленска Армин Шейдербауер. — По ничего не подозревавшим, мирно пасущимся животным наш пулеметчик дал несколько очередей. Выполнялся приказ, согласно которому в руки противника не должно было попасть ничего, что могло бы ему пригодиться в будущем. Все, что могло использоваться для размещения войск, должно было сжигаться. Продовольствие, транспортные средства, оружие и снаряжение должны были уничтожаться в рамках проведения тактики «выжженной земли». Это было последствием примера, который был подан врагом в 1941 году».
Ссылку немецкого офицера на «пример врага» вряд ли можно считать все объясняющей и уж тем более как-то оправдывающей драпающие войска «нибелунгов». Этот «пример» им был подан собственными отцами, солдатами кайзеровской армии во времена еще Первой мировой войны. Об их действиях не в «варварской» России, но в цивилизованной Франции, бывший в то время корреспондентом газеты «Биржевые ведомости» в Париже Илья Эренбург в своей книге «Люди. Годы. Жизнь» вспоминал так:
«Вот моя запись, относящаяся к 1916 году:
В Пикардии немцы отошли на сорок-пятьдесят километров. Повсюду видишь одно — сожжены города, деревни, даже одинокие домики. Это не бесчинство солдат; оказывается, был приказ, и саперы на велосипедах объезжали эвакуируемую зону. Это — пустыня. Города Бапом, Шони, Нель, Ам сожжены. Говорят, что немецкое командование решило надолго разорить Францию. Пикардия славится грушами, сливами. Повсюду фруктовые сады вырублены. В поселке Шон сначала я обрадовался: груши, посаженные шпалерами, не срублены. Я подошел к деревьям и увидел, что все они подпилены, их было свыше двухсот. Французские солдаты ругались, у одного были слезы на глазах».
Время выдает только одна деталь: саперы на велосипедах.
Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони; листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы в Шоне».
В вышедшей в 1995 году книге Е.С. Федорова «Правда о военном Ржеве» говорится о том, что оставшееся в оккупации население города первое время жило за счет собственных продуктовых запасов и тем, что успело награбить в период безвластия. Потом «основным пайком являлся обед с немецкой кухни. Лица, уклоняющиеся от работ на нужды немецкой армии, лишались пайка. С января по апрель 1942 года нетрудоспособному населению три раза выделяли по нескольку кг льносемени, оставшегося на складе «Заготзерна». В июне 1942 года всему населению по карточкам выдавали по 1 кг 250 г муки на взрослых и по 750 г на детей, масло растительное по 125 г на взрослого и по 100 г на детей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

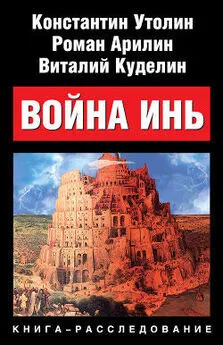
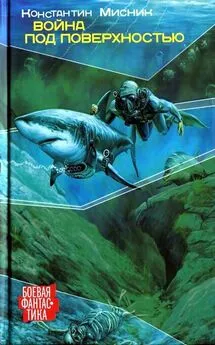
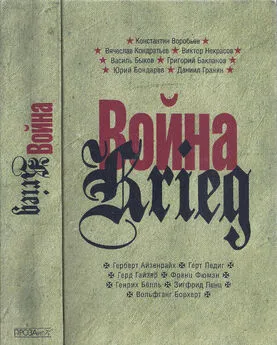

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)