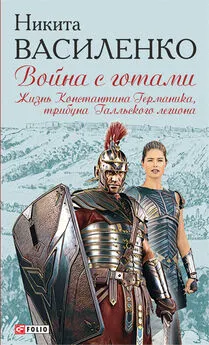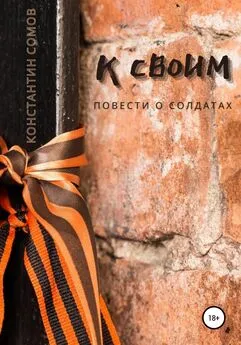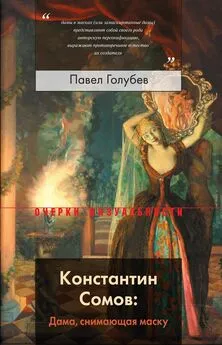Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь
- Название:Война: ускоренная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Барнаул
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь краткое содержание
Книга эта начиналась тридцать лет назад, когда мальчишка Костя Сомов услышал на рыбалке от старика историю о том, как жили на войне. Не воевали — жили. Это в кино на войне всегда стреляют. На самом деле боевые действия занимают на войне не так уж много времени. В своей книге Константин Сомов приводит слова нашего земляка, бийчанина Героя Советского Союза Сергея Баканова: «После войны подсчитал: наступал, то есть по-настоящему воевал, восемьдесят восемь суток, в госпиталях валялся, то есть бездельничал — 315 суток, в обороне был 256 суток, учился на командира под Сталинградом 50 суток. И до того, как попал на фронт, околачивался во Владивостоке — 350». Хотя все это тоже была война, но в каждом из этих состояний она была разная. Про это и книжка.
В книге 600 страниц. Сравнительно немного, а вышла целая энциклопедия. Но не холодная и безжизненная, какими обычно бывают энциклопедии, а трогательная и человечная. Всех жаль — и русских, и немцев, и обобранных командиром Попеску качающихся от недоедания румын.
Константин Сомов упоминает сотни разных людей, и о каждом хочется узнать — дожил ли он до Победы? Прочитал, например, про то, как попавшие в окружение бойцы 364-й дивизии стащили у комдива Филиппа Соловьева жеребца — последнюю уцелевшую лошадь. Комдив не стал искать виноватых, подосадовал лишь: «Думаете, мне есть не хочется? Жалко было дураку… Надо было съесть»… Долго искал в разных книжках, выяснил — выжил Филипп Соловьев после окружения и даже командовал потом корпусом.
О многом из того, что написано Сомовым, до него так подробно не писал никто — например, кому, за что и сколько на войне платили денег. Оказывается, еще в августе 1941 года приказом Верховного главнокомандующего для летчиков была введена денежная награда за каждый сбитый немецкий самолет — тысяча рублей. (Логика есть: войну ведь называют работой, а за работу надо платить).
В большинстве же книг, написанных в последние годы, именно заряд любви и сострадания просто не предусмотрен. Авторы придумывают детективный сюжет, помещают в военный антураж любовный, авантюристический или шпионский роман. Возможно, они полагают, что правда о войне — слишком горькая таблетка, надо подсластить или чем-то отвлечь внимание читателя. А скорее всего — так проще: не надо ходить по архивам, не надо слушать стариков. Да их ведь еще найти надо — ветеранов. Вместо этого одни авторы своими книжками воюют с другими: напишет кто-то про Великую Отечественную войну одну книжку, а ему в ответ — десять. А годы идут, и тех, кто помнит войну, остается все меньше. Очень скоро о Великой Отечественной не останется у нас ничего, кроме памяти, заключенной в книжные переплеты. Война становится далекой, перестает быть страшной, а если она не страшна, то чего бы не повоевать вновь? И от того, какими будут книги о войне, зависит, каким будет наше будущее и будущее наших детей…
Война: ускоренная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако вернемся в тыл, в Славгород декабря 1941 года. По рассказу Василия Борисовича Фалалеева, одели новобранцев в летнее хлопчатобумажное обмундирование, выдали бушлаты и зимние шапки и, само собой, ботинки с обмотками. Но перед самым Новым годом бойцы неожиданно получили новые дубленые полушубки, валенки, стеганые штаны. Когда выяснилось, что отправка на фронт задерживается, полушубки с валенками у них забрали назад».
Подобная картина наблюдалась во многих формирующихся в тылу частях, запасных полках, офицерских училищах.
— В конце февраля 1943 года нам выдали теплую одежду, валенки, телогрейки и ватные брюки. Все новое, — вспоминал выпускник Асиновского военно-пехотного училища Семен Соболев. — Тогда, как на тактические учения, выдавали теплую одежду, уже бывшую не только в употреблении, но и на фронте: чиненые и сырые валенки, пробитые и окровавленные телогрейки, может быть, уже с отлетевших душ. А тут — все новое. И это было очередным сигналом нашего скорого отъезда на фронт.
Грубовата, да тепловата
«Живу, как и прежде, хорошо, — писал с фронта 17 ноября 1942 года уроженец села Малышев Лог Волчихинского района Николай Терещенко. — Недавно получил новое обмундирование, начиная от теплых портянок и кончая шинелью и шапкой. Приходится задумываться над тем, сколько нужно усилий и лишений переносить народу нашей страны, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Вот сосчитайте вещи, которые получены лично мною: белье холодное, белье фланелевое теплое, шерстяной свитер, шерстяная гимнастерка, стеганые ватные брюки, меховой жилет (сверх гимнастерки под шинелью), шинель, шапка, рукавицы, сапоги, которые вскоре заменят валенками, три пары теплых портянок, вещевой мешок и другое. И все это с иголочки. Ходишь, как туз!».
Еще 18 июля 1941 года вышло Постановление Государственного комитета обороны «О мероприятиях по обеспечению Красной армии теплыми вещами на зимний период 1941/42 гг». Уже в первую военную зиму тыл постарался обеспечить фронт теплым обмундированием. Командный состав носил под шинелями овчиные жилеты, хорошо согревавшие и не стеснявшие движений. Многие бойцы и командиры были в добротных романовских полушубках, служивших и неплохим маскировочным средством. В них ходили и танкисты, хотя протискиваться в танковый люк при этом было трудновато, да и пачкались они быстро.
«Выдавалось нам обмундирование — высший класс, — вспоминал воевавший под Москвой комбат С. Засухин. — Кальсоны, рубашка, теплое вязаное белье, гимнастерки суконные, ватники (на грудь и штаны-ватники), валенки с теплыми портянками, шапка-ушанка, варежки на меху. На ватники надевали полушубки. Через рукава полушубка пропускались меховые варежки глубокие, с одним пальцем. Под ушанку надевались шерстяные подшлемники, — только глаза были видны и для рта маленькое отверстие. Все имели белые маскхалаты».
Необходимо подчеркнуть одну «маленькую» деталь. Думая о своих солдатах не только как о защитниках Родины, но в последующем и будущих отцах, призванных улучшить демографическую ситуацию в стране, государство порой проявляло в этом плане определенную заботу о них. По крайней мере, о некоторых. Александр Пыльцын вспоминал, что во время его службы зимой 1942–43 годов в 29-й отдельной стрелковой бригаде на Дальнем Востоке «морозы были внушительными. Так что на лыжные переходы нам выдавали надеваемые под шапки-ушанки трикотажные шерстяные подшлемники с отверстиями для глаз и рта. Да еще такие же специальные мешочки для других, не менее нежных частей тела».
При отсутствии валенок идеальным вариантом считалось иметь сапоги на несколько размеров больше нужного. Выдвигаясь на целый зимний день в засаду, опытные снайперы намазывали ноги жиром, затем надевали шерстяные носки, обертывали их газетами, а сверху еще наматывали по паре портянок. Это было надежно.
Про русскую шинель солдаты говорили, что она грубовата, зато тепловата. Обычно спать приходилось под открытым небом, и поэтому шинель была незаменимой постелью: на нее ложишься, ею укрываешься, да и в изголовье она же, только хлястик надо расстегнуть. и спишь как убитый.
«До этого не обращал внимания, а в войну заметил: уязвимей всего к холоду коленки. Может быть, оттого, что на коленках у человека нет ничего, сохраняющего тепло: кожа да кости, — вспоминал Мансур Абудулин. — Спасала солдата шинель. Полы у шинели длинные. В походе или в атаке это, конечно, минус: путаются в ногах, приходилось засовывать под ремень, чтоб не мешали бежать. А вот во время сна минус оборачивался плюсом: полами шинели очень удобно было укутывать стынущие ноги. Более удачную для солдата одежду не придумаешь! И материал для нее выбран подходящий: шинельное сукно не только греет хорошо, к нему и снег не липнет, и присохшая глина легко удаляется, дождь тоже с него скатывается, быстро оно сохнет. Трудней очищалась сажа».
Весной 1941 года «в помощь» шинели в РККА ввели хлопчатобумажный бушлат на вате. Рукава с хлястиками, на концах воротника — шинельные петлицы. Этот бушлат, продержавшийся до конца 60-х, предназначался для рядовых и сержантов, но иногда служил и старшим начальникам: так, в нем на передовой под Севастополем часто появлялся генерал Иван Ефимович Петров. 25 августа того же 1941 года телогрейка-подбушлатник приобрела стояче-отложной воротник с петлицами. Она застегивалась петлями-шлевками на пять больших пуговиц, а манжеты рукавов — аналогичным образом на малые; по бокам имелись шлевки для ремня. В боковые швы пол вшивались накладные открытые карманы.
В обиходе называемая фуфайкой, телогрейка исправно служила полевой верхней одеждой и бойцу, и командиру. В круговерти траншейных схваток и тесноте скоротечных стычек в разрушенных городских квартирах она была, конечно, куда удобней шинели и, делая солдата гораздо подвижней и ловчее, чем в шинели, порой попросту спасала ему жизнь. Популярная у солдат и среди младшего комсостава, знакомая ныне многим из нас по фильмам о Великой Отечественной плащ-накидка из защитной палаточной ткани, с отложным воротником и капюшоном появилась еще в 42-м, но была «узаконена» приказом наркома обороны лишь 30 апреля 1943 г. Доходя чуть ли не до края пол шинели, она застегивалась накидными петлями на две большие пуговицы, а в открытом виде удерживалась за спиной пристежным нашейным ремешком.
«До конца войны, по крайней мере в нашей дивизии и полку, младшие офицеры, сержанты, рядовые получали обмундирование одного образца, — вспоминает Евгений Монюшко, — солдатские шинели на крючках, без пуговиц; кирзовые сапоги, которые, вопреки распространенному мнению, вовсе не были «пудовыми», напротив, даже много легче обычных яловых. Но вот голенища у них очень быстро протирались на сгибах, и уже на второй месяц, если не раньше, сапоги начинали пропускать воду.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

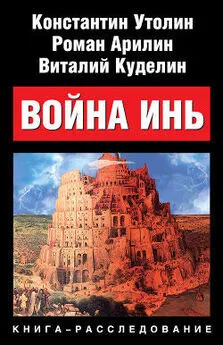
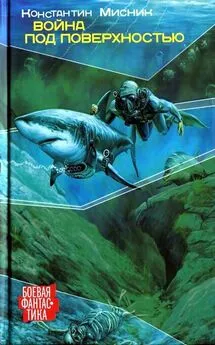
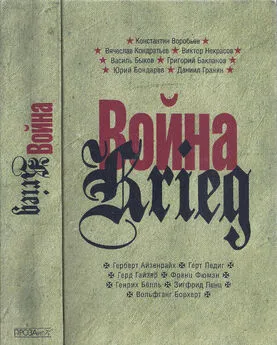

![Константин Назимов - Война с Альянсом [СИ]](/books/1059865/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-si.webp)
![Константин Назимов - Война с Альянсом [litres]](/books/1150116/konstantin-nazimov-vojna-s-alyansom-litres.webp)