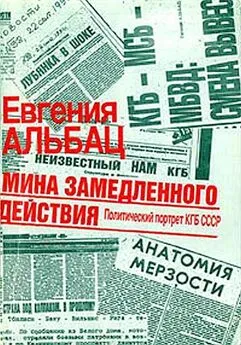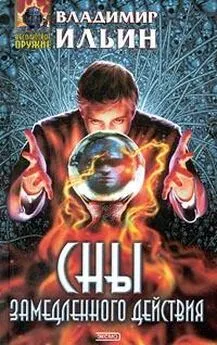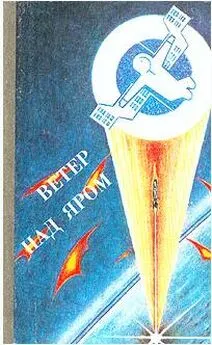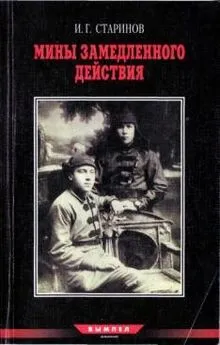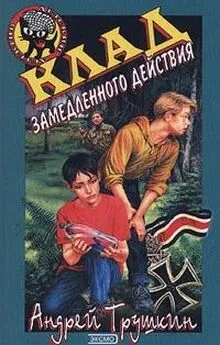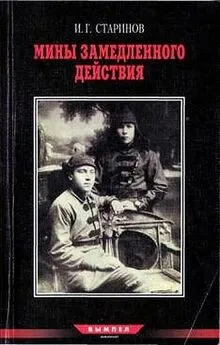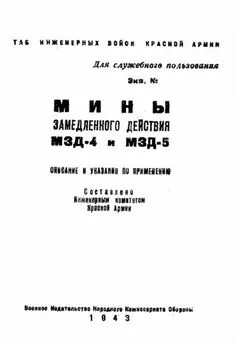Евгения Альбац - Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ
- Название:Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русслит
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5-86508-009-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Альбац - Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ краткое содержание
Книга известной журналистки Евгении Альбац на широкой документальной основе рассказывает об истории политической полиции в Советском Союзе, о том, как из инструмента власти КГБ постепенно превратился в самою власть. Это первая книга о КГБ, написанная советской журналисткой, живущей и работающей в России.
Мина замедленного действия. Политический портрет КГБ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Создателем и вдохновителем Пятого управления долгие годы был генерал армии Филипп Бобков. Личность для Комитета весьма неординарная, вошедшая и в историю КГБ, да и в историю страны — тоже.
Филипп Бобков пришел работать в органы в 1945 году — еще был жив Берия. Пережил 12 председателей КГБ и последние годы был истинным его руководителем, хотя официально и занимал кресло первого заместителя Председателя КГБ.
С конца января 1991 года Филиппа Бобкова в высоких кабинетах КГБ нет — оттуда он ушел на почетную должность советника Министерства обороны СССР в так называемую «райскую группу». Но дело его, как утверждали сами сотрудники КГБ, жило… Живет? Думаю, что, уйдя из КГБ де-юре, де-факто, — как минимум до августовских событий — Бобков в этих кабинетах оставался… Ну, да Бог с ним.
Так чем же занималось управление, призванное защищать нашу Конституцию? Согласитесь, скороговоркой в такой важной теме не обойтись, и я позволю себе быть здесь, может быть, даже навязчиво подробной.
Итак, 1 отдел (тот самый, абрамовский), поменяв начальника, назвали отделом по работе с антисоветскими организациями за границей. Но прежние функции не упразднили — в духе времени модифицировали: в Управлении «Z» появился отдел N3, который стал заниматься «неформальными объединениями и организациями». Проще говоря — новыми политическими партиями и движениями.
«Считается, — говорил летом 1991 года подполковник КГБ, сотрудник «Z» Александр Кичихин, — что мы контролируем деятельность создаваемых партий для того, чтобы они случайно не замахнулись на государственный строй и конституционные права граждан». {20}
Продолжало управление интересоваться и молодежью. Только если в Пятом Главке этот отдел проходил под номером «три», то в перестроечные времена стал «девятым», что сути дела, естественно, не меняло. По словам того же Кичихина, «в Москве, например, не существовало практически ни одного вуза, который не находился бы в обслуживании КГБ». {22}Правда, внутри КГБ студенчество было поделено на сферы влияния — так сказать, по интересам. Скажем, разведка (Первое Главное Управление) и контрразведка (Второе Главное Управление) давно и прочно обосновались в МГИМО, они же весьма пристально интересовались и факультетом журналистики МГУ. Компетенцией Второго Главка был и Бауманский университет. А скажем, Инженерно-строительный институт почему-то курировался лишь на уровне районных аппаратов КГБ по Москве и Московской области.
Но все это, конечно, вовсе не значит, что идеологическая контрразведка была на периферии борьбы за советскую молодежь. Напротив, переименованное Пятое управление патронировало все основные вузы столицы. Более того: «студенческий» отдел относился к числу элитарных в управлении. «Например, филологический факультет МГУ у нас назывался «факультетом дипломированных жен». Туда поступали дети номенклатуры — партийной и государственной, — рассказывали мне комитетчики. — Конкурс большой, попасть в число студентов было нелегко. Так вот, номенклатурные товарищи знали, что факультет обслуживает КГБ. Снимали «вертушку» и звонили…» «Неужели Бобков занимался проталкиванием «детей» в МГУ?» — поразилась я. — «Нет, конечно. Бобков до таких вещей не опускался. Он давал указание начальнику отдела, тот вызывал опера, который обслуживал филфак, опер шел к заместителю декана… В приемных комиссиях всегда были наши люди — агенты или доверенные лица, или контакты. КГБ давал список — кто должен поступить или — кто не должен…»
Кто не должен поступить — естественно, не поступали. «В ходе предварительной проверки абитуриентов, поступающих в Литинститут, на отдельных из них были получены компр. материалы. На основании указанных данных абитуриенты В. Романчук, О. Касьянов, О. Алешин, В. Чернобровкин, Г. Осипова были отведены от приема в процессе вступительных экзаменов», — сообщалось в одном из отчетов отдела в 1985 году. {23}
Все то же самое продолжалось и в славные годы перестройки — может быть, лишь масштабы стали чуть меньше. «Короче, июль-август для ребят из третьего отдела были самые жаркие месяцы, но на этом многие делали себе карьеру: папы-мамы умели быть благодарными», — заключил свой рассказ комитетчик.
К числу элитных относился в свое время и отдел, занимавшийся творческой интеллигенцией («сюда подбирались люди исключительно по принципу личной преданности начальству»). И отдел N11, который в доперестроечные времена курировал спорт — «в любой спортивной федерации обязательно есть наш человек, сотрудники включались в состав спортивных делегаций, а загранпоездки — это всегда и товар, и деньги, и все что угодно; в Олимпиаду же этот отдел стал самым блатным». Вот только один пример работы «спортотдела» КГБ: «Отведена от поездки в ГДР в составе спортивной делегации капитан сборной команды по волейболу «Динамо» Маслова И. А., в отношении которой были получены материалы ОТМ (оперативно-технические мероприятия — прослушивание телефона, слежка и т. д. — Е.А.) о ее намерении выйти замуж за иностранца. Маслова была отведена с использованием оперативных возможностей в отделе спортивной медицины ЦС «Динамо». (Это значит, что под «крышей» отдела спортивной медицины работал либо комитетчик, либо — что скорее всего — агент. — Е. А.) Работа по оказанию на Маслову выгодного нам влияния продолжается», — рапортовал оперативник в декабре 1983 года {24}.
В перестроечные времена 11 отдел переквалифицировался на работу по совместным предприятиям (СП) гуманитарной направленности. («Не гуманитарной» направленности СП были сферой компетенции других управлений КГБ. Но об этом пойдет речь в главе «Реалии эпохи гласности».)
Однако были, естественно, в Управлении «Z» и те, кто сами себя называли «рабочими лошадками». Это сотрудники 5 отдела — «организованная преступность и массовые беспорядки», 6 — «террор», 7 — «анонимки». Да, да, по анонимкам работал специальный отдел: считалось, что усилия этих чекистов прежде всего направлены на розыск безымянных авторов террористических угроз, но, как говорят сами комитетчики, анонимки политического характера — особенно в прошлые годы — в корзину отнюдь не выбрасывались. Кстати — совет для не слишком умелых конспираторов: на валике вашей пишущей машинки, используя специальную технику, можно прочесть тексты, которые вы печатали на протяжении как минимум последних двух недель; для уничтожения «следов» валик надо прокипятить.
К «пахарям» мои собеседники из управления относили и аналитиков 10 отдела, и, что любопытно, «националов» — сотрудников отдела межнациональных отношений (отдел N2), трудившихся на ниве, как любило выражаться комитетское руководство, «сепаратистских движений». По моей информации, этот отдел сделал немало для поддержания напряженности между русскоязычным и коренным населением в республиках. Особенно — в Прибалтике. Хотя — знаю — были там и люди, которые подобной политике КГБ пытались противиться. Но, видно, без особого успеха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: