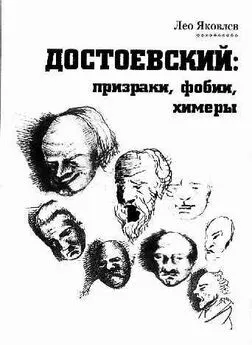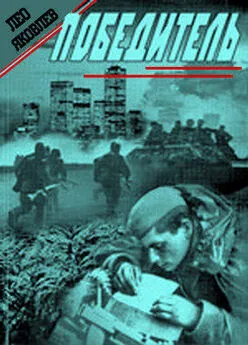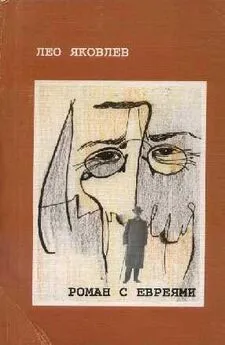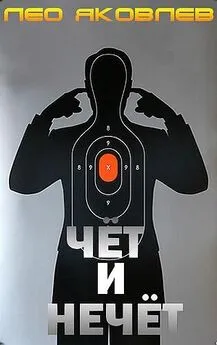Лео Яковлев - Т-щ Сталин и т-щ Тарле
- Название:Т-щ Сталин и т-щ Тарле
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лео Яковлев - Т-щ Сталин и т-щ Тарле краткое содержание
Т-щ Сталин и т-щ Тарле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот разговор на «геморройную» тему слышала тетушка Леля, и когда Тарле вышел из комнаты, сказала мне, что к этому термину я имею некоторое отношение. Оказалось, что когда она и Тарле собирались в конце XIX в. в первую поездку во Францию, моя бабка Лиза сказала мужу, что они стеснены в средствах и хорошо было бы им помочь деньгами. При этом она всячески расхваливала брата как подающего надежды ученого, едущего не гулять, а для архивных занятий. Выслушав ее, мой дед, энергичный инженер и заводчик, вздохнул и сказал: «Ну что ж, значит, в нашей семье одним геморроем будет больше». Помощь была оказана, а спустя некоторое время Лиза передала Тарле реплику мужа. Тарле поначалу обиделся, но потом решил, что эти слова к нему не могут относиться: он был живым, легким на подъем, быстрым в работе на всех ее стадиях. Таким он был до последних дней, не обращая внимания на терзавшие его болезни. Чего стоит, например, его поездка в Будапешт за год до своего восьмидесятилетия? Естественно, что ему были приятны люди его склада, с искрой Божией в душе, даже если они не были его единомышленниками, и им, а не «мученикам пера» он отдавал предпочтение. Что-то такое, по-видимому, было и в бывшей левой эсерке Панкратовой, возбуждавшей его интерес и симпатию.
Год 1947-й, вероятно, внес некоторое беспокойство в душу Тарле. Вроде бы ничего не изменилось в его жизни. Ну, не пустили в 46-м в Норвегию, зато год спустя была Чехословакия — первая заграничная поездка после тюрьмы и ссылки. Тетушка Леля была в восторге от Праги. «Это просто Париж», — повторяла она. По-прежнему журналы и газеты просят и безотказно печатают его статьи. И все же он чувствует ветер перемен. Плохих перемен. Речь Черчилля в Фултоне, потом непомерно раздутое идеологическое «дело» о ленинградских журналах с шумным шельмованием двух имен писателей, присутствия которых Тарле до этого в литературе даже не замечал. Он вчитывался в «Приключения обезьяны» и не мог понять, чем опасен этот рассказ. Может быть, потому не мог понять, что ему был незнаком быт того мира, в котором странствовала обезьяна, а большинству «советского народа» этот быт был хорошо знаком. Тем не менее, Тарле ощущал, что время начала новой охоты на «ведьм», среди которых мог оказаться любой, неотвратимо приближается. А к этому новому времени он не был готов, потому что он теперь никоим образом не мог узнать мысли и намерения Сталина. «Вождь» вроде бы больше в общении с ним не нуждался. Не имея такой информации, нельзя было ни выработать линию поведения, ни оценить последствия назревающих «процессов». И Тарле решается напомнить о себе.
Люди, знавшие о том, что они, обратив на себя внимания «вождя», как бы получили от него в долг и благоденствие и даже жизнь, вероятно, всегда чувствовали себя его должниками. А долг, как известно, платежом красен. Конечно, долг свой такие «должники» не всегда пытались вернуть «вождю» без задней мысли. Алексей Толстой, например, с помощью мертворожденной повести «Хлеб» решал свои материальные проблемы. Впрочем, злые литературные языки утверждали, что этой повестью «красный граф» заодно и прикрылся от угрожавшего ему ареста. В любом случае его затея удалась. Значительно хуже всё сложилось у Михаила Булгакова: когда он с помощью пьесы «Батум» о молодом Сталине захотел выплыть из литературного небытия, «вождь» мягко и даже нежно разрушил его планы, сказав одну из своих знаменитых фраз о том, что «все молодые люди похожи друг на друга» и писать о «молодом Сталине» не стоит, лучше — о зрелом. (Впрочем, Л. Е. Белозерская говорила мне, что Булгаков мог пойти на эту авантюру под нажимом Елены Сергеевны, которой хотелось блистать в советском «литературном обществе». В общем, «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!», как отец Федор.) Тарле, естественно, тоже ощущал себя «должником» Сталина. Он, следуя тогдашней публицистической традиции, поминал его имя в предисловиях своих книг, в газетных и журнальных статьях. («Традиция» эта была настолько всесильной, что ссылки на Сталина я встречал в предисловиях к математическим и техническим книгам, изданным до 1953 года.) Но своего «Хлеба» или своего «Батума», где «вождь» присутствовал бы не в преамбуле, а в самой сердцевине повествования, у Тарле долгое время не было, и только в 44-м году, во время своих борений с неопокровскианцами он сочинил опус над названием «Об исторических высказываниях товарища Сталина».
Тарле очень любил исторические анекдоты, моделирующие ситуации, которых в действительности не могло быть. Среди них был такой: король-солнце Людовик XIV как-то написал стихи и решил показать их Буало. Тот прочитал их и будто бы сказал: «Завидую вам, Ваше Величество! Вам все удается! Вот захотели написать плохие стихи, и получилось!»
«Сталинская» статья Тарле свидетельствует о том, что историку тоже всё удавалось: плохим оказалось это сочинение, будто не он сам его писал. В этом может убедиться каждый, положив рядом «Исторические высказывания» и, например, его же краткий, но блистательный исторический очерк «Речь генерала Скобелева в Париже в 1882 г.». Первым впечатлением внимательного читателя будет сомнение в том, что эти вещи принадлежат одному автору. Возможно, Тарле мешала тень живого Сталина, где-то рядом попыхивавшего своей непременной трубкой.
К слову о «незримом присутствии» Сталина за плечом у Тарле, писавшего эту статью, отметим, что в ее тексте содержится скрытое упоминание об одной из встреч историка с «вождем»: «…когда вышел в русском переводе Плутарх, я подумал, что самому Сталину это издание не нужно: Плутарха он читает в греческом подлиннике, как это случайно стало мне известно» . (Хорошо учили в Тифлисской семинарии, да и память у «вождя» была дай Бог каждому!)
Тарле, естественно, и сам ощущал неполноценность этого своего труда и потому печатать его не собирался, а лишь пугал им своих оппонентов, типа: «Вот я опубликую написанное, тогда вы у меня другое запоете!» Но в безвременье 47-го года он, видимо, решил этой статьей напомнить о себе и, достав ее «из стола», направил для публикации в «партийной печати». Он, надо полагать, предвидел, что она не будет напечатана, однако был уверен, что Сталин о ее появлении будет извещен. Статья попала к новоиспеченному «академику-филозопу» Г. Ф. Александрову, который в 47-м, прежде чем уйти на академический покой и сосредоточиться на ставших известными всей стране сексуальных развлечениях с актрисулями, дорабатывал последний год своей государственной службы на ответственном посту начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в народе прозванном «Александровским централом». Александров, как и ожидал Тарле, не взял на себя ответственность отклонить статью (чем черт не шутит, может, у этого Тарле «каким-то образом» всё заранее согласовано с «вождем»!) и направил ее в Кремль с запиской на имя Поскребышева, содержащей отрицательный отзыв, да еще и указав на совершенно недопустимую крамолу: оказывается, что «академик Тарле сравнивает пропаганду Геббельса с ошибками Энгельса». Конечно, какое-либо сопоставление романтика нацизма с одним из основоположников марксизма могло рассматриваться как преступная дерзость!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: