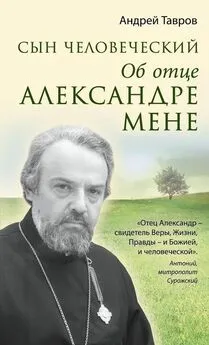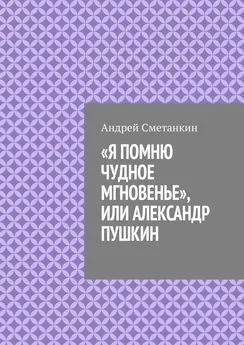Андре Боннар - Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии.
- Название:Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:<ИСКУССТВО>
- Год:1992
- Город:МОСКВА
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Боннар - Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии. краткое содержание
Последняя из трех книг известного швейцарского ученого А. Боннара, завершающая его блестящее исследование греческой цивилизации. Третий том знакомит читателя с эпохой поздней античности — временем походов Александра Македонского, философии Аристотеля и Платона, драматургии Еврипида, ораторского искусства Демосфена. Это время выхода эллинской культуры за пределы Греции, расцвета науки и искусств в городе Александрии, с которой связаны многие открытия греков в механике, астрономии, географии, медицине. Заключают большой по охвату материал книги главы об александрийской поэзии, первом греческом романе «Дафнис и Хлоя», философе Эпикуре и его учении.
Греческая цивилизация. Т.3. От Еврипида до Александрии. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но рядом с романтизмом страсти и с эффектами контрастов, допускаемыми страстью, у Аполлония имеется другая черта, которую можно квалифицировать как романтическую, не злоупотребляя этим словом, — это определенный прием приобщать природу к душевному состоянию героя. Современные романтики и даже уже Вергилий воспринимают природу в ее созвучии с нашими чувствами или, наоборот, в ее диссонансе с ними. Они призывают природу страдать с нами или, наоборот, они негодуют, что она остается равнодушной к нашим страданиям. Но это одно и то же: в том и в другом случае природа воспринимается субъективно, не существуя вне связи с нашим душевным состоянием. Но эта форма восприятия природы очень редко встречается в древности. (Лишь Сафо иногда соединяет так природу со своими страстными переживаниями.) Для древних поэтов, касавшихся природы, она — реальность, существующая сама про себе, великая божественная реальность, в которой человек имеет, конечно, свое место, но от которой поэт и не думает требовать изменений в соответствии с тем, что он чувствует.
Я замечу, что душевные переживания Медеи — хотя Медея определенно и не взывает о сочувствии природы — включаются в общий фон как естественные для чувств, испытываемых ею. Медея, как многие романтические героини, нуждается в лунном свете. Это лунное освещение не замедлило появиться в двух следующих случаях. Так, луна поднимается над горизонтом, когда Медея убегает из дома отца, и — верх романтизма — в момент, когда она проходит через кладбище! Другое место поэмы показывает нам Медею у окна ее комнаты, она смотрит на восходящую луну и ловит ее лучи в складки своей тонкой рубашки. Критика обнаруживает в этом отрывке колорит немецкого романтизма.
* * *
Оставим Аполлония. Не забудем о наличии конца, о той последней точке, о которой долго забывал Аполлоний в своей четвертой песни. Аполлоний имел многочисленных наследников, это доказывает, что его произведение, каким бы оно ни было искусственным, обремененным влиянием среды и тяжестью классической традиции, что оно не было, однако, целиком обращено к прошлому. Греческий роман, я уже сказал это, родился из этой поэмы. Но Аполлоний имел одного гораздо более знаменитого наследника. Вергилий, создавая песнь о любви Энея и Дидоны, в четвертой песни «Энеиды» воспроизводит, заканчивает и преобразует третью песнь «Аргонавтики». Восхитительная поэма любви Дидоны следует шаг за шагом по стопам Медеи. Мы не читаем больше Аполлония. Лучшее из его произведения перешло в эту песнь «Энеиды». Вергилий поглотил его, использовав до последней крошки. Более того, он не только его поглотил, он его стер, уничтожил, выбросил вон из живой литературы, почти всегда завершая то, что у Аполлония иногда оставалось законченным лишь наполовину.
Один пример. В одном месте, довольно красивом, в четвертой песни «Аргонавтики» (известно, что такие места там редки!) аргонавты, выброшенные на берег Ливии, проводят в пустыне дни за днями без воды. Вдруг порыв ночного ветра приносит им таинственный шум, подобный звуку шагов на песке. Кое-кто из них идет взглянуть, что там такое, и Линкей, обладающий зорким взором, «думает, что видит Геракла, одного и очень далеко, совсем на краю безграничной равнины, как видят или как могут увидеть молодую луну сквозь туман». Сравнение прелестно само по себе, но оно не совсем удачно применено. Геракл и первый серп молодой луны немного не подходят друг к другу, для того чтобы быть объединенными таким образом; в конце концов сравнение не достигает цели и кажется приклеенным украшением. Вергилий возобновляет этот отрывок в «Энеиде» в песни о нисхождении Одиссея в Аид, в двух стихах, переведенных из Аполлония: «…и он узнал ее среди теней». Но нужно сначала процитировать по-латыни:
…agnovitque per umbras
Obscuram qualem primo qui surgere mense
Aut vidit aut vidisse putat per nubila lunam [87] …Дидона
.
В роще блуждала огромной; троянский герой, едва только
Близ от нее оказался, ее распознал, среди мрака
Зримую смутно — какой в первый месяца день на восходе
Видишь иль мнишь, что увидел луну среди облачной дымки.
(«Энеида», кн. 6, с. 450–454, перевод В. Брюсова иС. Соловьева, М.—Л., 1933)
Но кого же Эней узнал среди теней (obscuram), как «могут увидеть молодую луну среди облаков»? Это не тяжеловесный Геракл, у которого никогда ничего не было от привидения или от мимолетного призрака, это бледная Дидона в миртовом лесу. Ценность образа несравнимо возрастает благодаря такому превращению. Тотчас же все становится на свое место, и поэтическую эмоцию не тревожит более несоответствие.
Поэзия Аполлония, я повторяю это, не есть творчество, целиком обращенное к прошлому; переменчивый гений александрийского поэта открывает какие-то перспективы. Это не пустяк — предвосхитить появление любовного романа, так же как появление определенной формы романтизма — романтической поэмы Вергилия.
ГЛАВА XVI
РАЙ ФЕОКРИТА
Феокрит. Поэзия празднеств. Греческая поэзия, да и вся литература были серьезны, глубоки. От Гомера до Аристофана. Да и сам Аристофан, как он ни паясничает, каких ни делает прыжков, какие ни отпускает шутки и ни смешит нас до слез, сам он серьезен. И именно эта глубокая серьезность позволяет ему делать его опасные прыжки и скачки под открытым небом без малейшей погрешности, без риска, в какую-то долю секунды, позволяет выйти из трудного положения не иначе, как невредимым, смеющимся и беззаботным.
Греческая литература, конечно, предполагала одобрение аудитории, доставление радости читателю. Через эту радость она хотела быть полезной коллективу, эффективной для его действий. Сама трагедия, главное литературное изобретение греков, сообщая знания об ужасах нашего человеческого существования, передавала в руки людей орудие мудрости, борьбы и освобождения. Греческая литература, по крайней мере пока существовала община, была таковой. Она была отражением человека как такового, сосредоточением энергии, имея в виду общие действия. Чем она никогда не была, так это чистым «дивертисментом», развлекательством, бессодержательностью.
Но вот теперь города-государства исчезли. В больших городах имеются только отдельные лица, которые преследуют, каждый на свой лад, индивидуальные интересы, которые ищут индивидуальных удовольствий. Литература становится одним из таких удовольствий. Предназначенным для тех, для кого отдых состоит в приятном саморазвитии. Для бедняков, для неграмотных не предлагается ничего значительного: военные парады, профессиональные певицы… И вот тем, кому хочется заниматься саморазвитием, Феокрит и предлагает свою рафинированную поэзию. Свою сельскую поэзию для горожан.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: